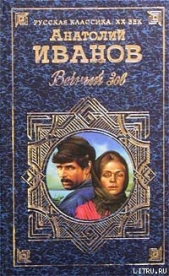Вечный зов. Том II
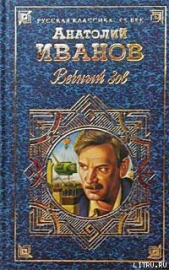
Вечный зов. Том II читать книгу онлайн
Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Солнце било в широкие и высокие окна приёмной первого секретаря Новосибирского обкома партии, пронизывало даже лёгкие матерчатые занавески, которыми до половины были задёрнуты окна, яркими жёлтыми полосами растекалось по паркетному полу от стены до стены. Иван Михайлович Субботин, войдя в приёмную, невольно прижмурился.
— Сколько у вас тут сегодня света! — весело сказал он секретарше, немолодой опрятной женщине, сидящей за столом, уставленным телефонами.
У стола секретарши сидела ещё одна женщина, врач областной поликлиники, которую Иван Михайлович хорошо знал, у ног её стоял медицинский баульчик. Проходя к двери кабинета, Субботин поздоровался с ней, спросил:
— Заболел кто у нас?
— Нет. Я… прививки пришла делать.
— От вас не отвертишься, — улыбнулся Субботин и с тем открыл тяжёлую дубовую дверь.
Первый секретарь, дымя папиросой, расхаживал по кабинету вдоль длинного стола для заседаний и, когда вошёл Субботин, находился к нему спиной. Он обернулся живо, как-то торопливо, немедленно раздавил папиросу в пепельнице и произнёс:
— Добрый день, Иван Михайлович. Садись, — указал он на крайний стул у этого длинного стола.
Что-то в его поведении Субботина насторожило, но хорошего настроения не испортило. Он, ответив на приветствие, сел и, не привыкший первым задавать вопросы начальству, стал ждать. А тот, усевшись напротив, смотрел куда-то в сторону, нахмурив брови. Тут уж Субботин обеспокоился, подумав, что первый собирается за какое-то упущение выговаривать ему.
— В Шантару когда едешь? — спросил первый.
— Сегодня во второй половине дня. Как договорились с тобой вчера… Пленум райкома у них через три дня, но я хочу по полям поездить, ещё раз всё посмотреть.
— Да, да… Значит, рожь у Назарова там выдержала засуху?
Обо всём этом, в том числе и о «ржи Назарова», они долго говорили вчера вечером, Субботину было теперь странно, что первый, никогда не имевший привычки возвращаться к тому, что раз уже было обговорено и решено, снова заводит об этом речь, и какое-то тревожное предчувствие кольнуло ему в сердце.
— Более или менее выдержала.
— По всему видать, Шантарский район по хлебу будет снова первым.
— Кажется, так… Я полагаю, надо бы нам в конце концов представить к правительственным наградам группу работников района. Ты смотри, сколько они там строительного леса заготовили! Кружилин докладывал — до последнего бревна всё сплавили по реке, сейчас пилят на доски, строят полным ходом жильё для рабочих завода. В общем успешно они решают эту проблему, самую для них трудную.
— Да, попытаемся давай, — сказал первый секретарь. — И обязательно Назарова. И погляди, кого там ещё из его колхоза. Пусть райком кандидатуры представит.
— Неурожай всё же. Как… чем мотивировать? — помолчав, спросил Субботин.
— Мотивировать… Слово-то какое! А так и обозначим в представлении: за получение высоких урожаев ржи в условиях засухи… А там, в Москве, пусть поправляют, как хотят.
— Хорошо. Вот за это… за это народ нам спасибо скажет.
— Нам, — поморщился первый секретарь. — Мы должны нашему народу спасибо говорить.
Он поднялся, отошёл к окну. Отодвинув в сторону занавеску, стал молча смотреть на улицу. Субботин остался сидеть. Его давно беспокоила неотвязная мысль: первый секретарь говорит одно, а думает, кажется, всё время о чём-то другом. О чём же? Что это всё значит?
— Не знаем мы… Я по крайней мере не знал ещё, как за эти два трудных и страшных года узнал, наш народ, — проговорил он от окна. — Ему не только спасибо — в ножки надо кланяться. Низко-низко… И поклонимся публично, перед всем миром, Иван Михайлович, придёт час. Я это знаю… Назарову этому, Нечаеву, Кружилину — всем. А ты говоришь: чем мотивировать? Кстати, как там Нечаев?
— Как? Умирает медленно. Это всем ясно. И он сам знает.
— Да, удивительно, — тихо проговорил первый секретарь обкома. — А что унесёт с собой в могилу? Ничего, кроме сознания честно исполненного человеческого долга перед людьми, перед землёй, по которой ходил. А это немало, Иван Михайлович. И ему, я полагаю, легко умирать…
Странные слова, отметил Субботин, произнёс секретарь обкома. А мысль, заложенная в них, не странная, не кощунственная. Вот как бывает. И спросил:
— Что там, в Наркомате, по поводу будущего директора завода думают? Кружилин беспокоится… Утвердят Хохлова? Ты хотел поговорить с наркомом.
— Я говорил, Иван Михайлович. Миронов какой-то вроде будет назначен. Генерал из Наркомата. Из репрессированных в тридцать седьмом. Сейчас полностью оправдан. Сам почему-то попросился на этот завод, как объяснил нарком. Почему сам? Ты не знаешь?
— Не имею понятия.
— Да, да… Ну ладно, Иван Михайлович. — Говоря это, первый секретарь обкома медленно отвернулся от окна, так же медленно двинулся к своему рабочему столу. Но, подойдя к нему, не сел, а лишь взял со стола какое-то письмо с приколотым к нему конвертом, с трудом поднял тяжёлую голову. — Иван Михайлович, я должен… обязан, к сожалению, сообщить это тебе. Ты мужественный человек… Твой сын Павел…
Первый секретарь обкома это говорил, а все вещи, находящиеся в кабинете, — мебель, портреты на стене, занавески на окнах и сами окна — потускнели вдруг, качнулись и поплыли, поплыли… И сам первый секретарь обкома как-то странно наклонился и, не падая окончательно, метнулся к нему. В уши ударило ещё раз глухо и больно:
— Иван Михайлович! Иван…
…Он очнулся на диване. Рядом на стуле, взятом от стола для заседаний, сидела та самая женщина-врач, которую Иван Михайлович видел в приёмной, — теперь она была в белом халате. Первый секретарь обкома стоял возле неё.
Очнулся Иван Михайлович оттого, что услышал запах какого-то лекарства. В голове стучало. И в груди, там, где сердце, стояла тупая, тяжкая боль.
Он приподнялся, спустил ноги на пол.
— Пашка, средний сын… Последний, — мучительно проглотив тяжёлую, с острыми краями пробку, торчавшую в горле, проговорил он. — Сперва крайних выбило, теперь в серёдку… Теперь я совсем один.
— Теряем сыновей, Иван. Теряем дочерей… — проговорил первый секретарь обкома, присаживаясь рядом на диван. — Не ты один теряешь. Всем тяжко…
— Да, это так. — Субботин, судорожно вздохнув, поглядел мутными глазами на врача, на первого секретаря. — Спасибо вам…
— Поезжай домой, Иван Михайлович. Отдохни, успокойся, если можешь… Вот Зинаида Даниловна побудет с тобой.
— Нет… Я пойду к себе в кабинет. Что же… надо работать. Надо работать.
— В Шантару ехать я тебе запрещаю. На пленум кого-нибудь другого пошлём.
— Нет, я сам поеду, — упрямо мотнул он белой головой.
…Когда Иван Михайлович Субботин снова шёл через приёмную, солнечные полосы, бившие из окон и растекавшиеся по паркетному полу, были чёрными, и он спотыкался об них.
Было второе августа, день стоял безветренный, тёплый, небо чистое и высокое.
На берегу Громотухи оживлённо, как на воскресном базаре. Галдели и кричали люди, на разные голоса звенели и хрипели пилы, скрипела прибрежная галька, по которой на лошадях таскали из воды мокрые, тяжёлые брёвна. Их распиливали тут же вручную на доски, на брусья, соорудив для этого высокие козлы, складывали в штабеля, а оттуда грузили на автомашины и подводы, увозили.
На не расчаленных ещё плотах купались ребятишки, с хохотом и визгом прыгали в воду, подымая тучи брызг. Старухи и женщины подбирали древесную кору и щепки, всякие обрубки и обпилки, связывали в вязанки или нагружали ими ручные тележки и увозили к себе домой — на топливо.
Над рекой по всему берегу стоял густой и холодный запах коры и сосновых опилок.
— Хорошо, а! — воскликнул Субботин, оглядывая всю эту трудовую суматоху. — Весело.
— Оно весело, пока с тучки не навесило, — сказал Филат Филатыч. Он стоял рядом, простоволосый, прижимая к груди замызганный старинный картуз.