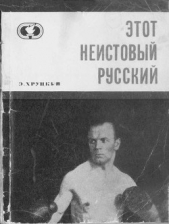Русский лес (др. изд.)
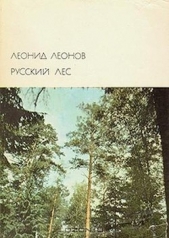
Русский лес (др. изд.) читать книгу онлайн
Леонид Максимович Леонов за выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и создание художественных произведений социалистического реализма, получивших общенародное признание, удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.
Роман Леонида Леонова “Русский лес” — итог многолетних творческих исканий писателя, наиболее полное выражение его нравственных и эстетических идеалов.
Сложная научно-хозяйственная проблема лесопользования — основа сюжета романа, а лес — его всеобъемлющий герой. Большой интерес к роману ученых и практиков-лесоводов показал, насколько жизненно важным был поставленный писателем вопрос, как вовремя он прозвучал и сколь многих задел за живое.
Деятельность основного героя романа, ученого-лесовода Ивана Вихрова, выращивающего деревья, позволяет писателю раскрыть полноту жизни человека социалистического общества, жизни, насыщенной трудом и большими идеалами.
Образ Грацианского, человека с темным прошлым, карьериста, прямого антагониста нравственных идеалов, декларированных в романе и воплотившихся в семье Вихровых, — большая творческая удача талантливого мастера слова.
Вступительная статья Е. Стариковой.
Примечания Л. Полосиной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В своей воинской части этот офицер занимал довольно крупную политическую должность, по сложности обозначения столь же недоступную пониманию смертных, как чины ангельские в небесной иерархии, — что-то вроде обер-штурмбан-хоф-динст-фюрер и, может быть, даже чуть повыше. На лошкаревский участок фронта его танковая дивизия прибыла прямо из Франции, добивать Москву с северо-запада, и таким образом завершался круг его давних стремлений: несмотря на приятности французской жизни, он немножко скучал в Париже. Впрочем, это не было презрением солдата к легкой войне, где поэзия смертельного поединка снижается подкупом высокопоставленных лиц или заблаговременным сговором заинтересованных буржуазии. Нет, не солнце современного Бородина с протуберанцами советских катюш, не блистательная возможность послушать вплотную великолепное ура русских атак привлекли его сюда; его манили не сувениры с черно-бурыми лисицами, не опасный исторический соблазн постоять с задумчивым видом на зубцах кремлевской стены, не обещанное ему фюрером поместье в Алазанской долине, на Кавказе, вряд ли также — возможность безнаказанно поразвлечься в оккупированной стране способами, предосудительными даже для притонов Западной Европы. В отличие от своих менее образованных, порою весьма недалеких сослуживцев, он видел свое призвание в научном осмыслении русских дел.
Со школьной скамьи его волновали географические открытия, колониальная романтика, в особенности же загадочное восточное пространство с его незаметным переходом от безумных снегов в палящий зной срединной Азии. Возможно, он и стал бы путешественником, выдающимся собирателем тянь-шанских мошек или сарматских антиквитатов, если бы к годам его зрелости в указанном пространстве не возникла заразительная идея всечеловеческого возрождения, грозившая перехлестнуть и на соседнюю Германию. Пожалуй, ничто так не повлияло на выбор ремесла этого изысканного и начитанного юноши, как ненависть к социализму, в свою очередь происходившая из боязни утратить родительскую фабричку — всего лишь пуговиц, но не просто этих круглых пустячков для закрепления одежды на надлежащем месте, а идеальных немецких вещиц в себе, крохотных и общедоступных шедевров капиталистической цивилизации. Компатриоты и руководящие политические мыслители, происходившие из фабрикантов или торговцев, полностью разделяли настроение пуговичника. О, разумнее было бы просто стерилизовать указанное пространство к востоку от Вислы с одновременной сутанизацией, как они называли насильственное лишение жизни, всего живого, что хотя бы дыханием соприкасалось с большевизмом... но было сомнительно, чтобы жертва добровольно подчинилась такому мероприятию. Здесь и возникла мысль о московском походе, названном генеральной битвой за свободу и культуру, так как неловко было призывать нацию к пролитию крови за частное пуговичное производство.
В глазах этого офицера все прежние неудачи военного, освоения России проистекали из невежества завоевателей, изучавших калибры ее пушек и численность гарнизонов вместо проникновения в наиболее сокровенные духовные тылы. Путем самостоятельного мышления офицер пришел к выводу, что в крепостях важнее всего моральная начинка их защитников, а не толщина кирпичной кладки, за которой они укрываются. Задолго до войны он проштудировал историческое прошлое восточного соседа, уклад народной жизни, даже строй ее песен и характер обрядов, причем в языке русском навострился не хуже иных наших филологов, что обучают школьников, к примеру, писать при заключенье, не разумея заключенного здесь насилия над русской речью. Он даже отыскал корни знаменитого, начиная с 1917 года, московитского смутьянства в национальной склонности поразмяться кулачным боем от избытка здоровья и суровостей континентального климата, а зачатки идеи о всемирном объединении трудящихся усмотрел в объединительной политике средневекового Московского государства. Однако все ускользало от пытливого офицера какое-то главное значение, непомеченное ни в антикварных изданиях, ни в сплетнях перебежчиков, ни в донесениях разведки. А оно было разлито в самом воздухе двадцатого столетия и заключалось не в настойчивом стремлении досадить пуговичным фабрикантам, а в извечной склонности простых людей жить мирно, сажать деревья и так растить сынков, чтоб по возможности тешили их старость, а не проклинали бога и матерей, повисая грудью на колючей проволоке.
Но и после стольких проявленных усилий Россия по-прежнему казалась дремучим лесом этому вдумчивому и деятельному офицеру. Он без сожаления поднял бы на воздух эту страну, так как для разочарованного собственника весь шар земной — сравнительно недорогая плата за пуговичную фабрику, и, надо сказать, несмотря на краткость пребывания под Москвой, уже достиг кое-чего в этом отношении. Однако, стремясь сочетать свой жестокий классовый долг с извлечением научной пользы, он своей обязанностью полагал, кроме руин в России, оставить хотя бы беглое ее описание, этакий Querschnitt [11] в подарок отдаленным немецким докторантам, чтоб избавить их от неблагодарного труда раскопок и домыслов. С этой целью он и вел регулярные дневниковые записи о своих непосредственных впечатлениях от людей и зданий с приложением фотографий, как они выглядели до и после встречи с ним. Разумеется, Поля не представлялась ему сколько-нибудь ценным собеседником, но наиболее умные соглядатаи предпочитают как раз у детей расспрашивать дорогу к заветным родничкам... потому-то офицеру и не хотелось пока ни пугать девчонку, ни причинять что-либо могущее затруднить ей самое словопроизношение.
Ему было за сорок; тень непоправимого уже и не только интеллектуального утомления лежала в его глубоких, настолько глубоких глазницах, что до самого конца Поля так и не сумела различить его зрачков. Зато у него были волосы отличного цвета пивной пены, спортивная выправка штабиста и благородный арийский череп даже несколько улучшенного образца, чем это требовалось для успешной политической карьеры. Крылатая эмблемка вермахта виднелась на его впалой груди... и вообще было в нем что-то от своенравных голенастых птиц, что имеют скверную привычку клевать в лицо без предупреждения. Словом, Поля сразу поняла, что умрет сегодня же, если не сумеет обмануть, отвлечь, задобрить его с помощью скудных чар, имевшихся в ее распоряжении.
Попеременно воспламеняя и туша зажигалку в пальцах, офицер долго глядел на Полю, пока та не побледнела в желательной степени. Разговор начался со взаимного ознакомления.
— Ничего не бойся. Все будет очень, очень хорошо. Возьми место. Как зовут?
— Аполлинария, — отвечала Поля, облизав пересохшие губы. — Вообще-то говоря, это довольно редкое имя, но бывают и еще более редкие... Аполлинария Вихрова.
— Аполлинария... так-так. — И, как бы пробуя на вкус, почмокал губами. — Сколько лет?
— Восемнадцать. Я уж в институт поступила... только пока не окончательно выбрала себе специальность. Имеются разные внутренние соображения...
— Это очень хорошо. Благодарю вас, Аполлинария. Кто отец, мать?
— Мама моя является фельдшерицей, то есть лечит больных. Что же касается отца, то он работает по лесному делу, профессором... только не совсем удачно: всё ругают! Ну, ведь ясно, кто в лес пошел, на того и шишки валятся.
Кроме соответственной улыбки, она попыталась подкупить германского офицера перечислением отцовских злоключений, случившихся при советской власти; он выслушал ее с заметным напряжением, потом нетерпеливо постучал зажигалкой в стол.
— Это потом, потом. Очень хорошо. Ты идешь из Москвы, так. Кто ты?
Поля сочувственно закивала ему:
— Я и сама больше всего боялась этого недоразумения, но я все объясню, если у вас хоть капелька терпеньица найдется! Я совсем кратенько, минутки в три или в четыре, постараюсь уложиться... можно?
Офицер глядел и молчал, как бы предоставляя пленнице любое время, и тогда самый пол качнулся под ее ногами, причем такое отчаяние отразилось в Полином лице, что офицер счел необходимым успокоить ее для достижения наилучших результатов.