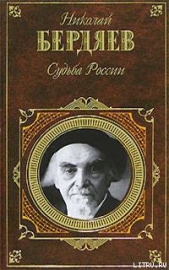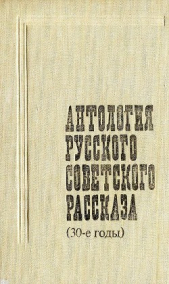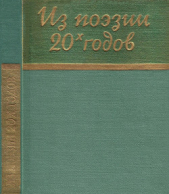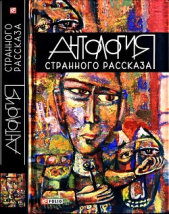Антология русского советского рассказа (40-е годы)
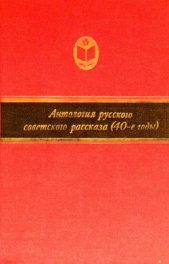
Антология русского советского рассказа (40-е годы) читать книгу онлайн
В сборник вошли лучшие рассказы 40-х годов наиболее известных советских писателей: М. Шолохова, А. Толстого, К. Федина, А. Платонова, Б. Полевого и других.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот однажды ночью меня будят, вызывают к начальнику в кабинет. Он взволнован, сияет, будет важный допрос, от которого зависит его карьера. Ах, если бы вы знали, как все они там думают о своей карьере! У меня похолодело сердце: кого поймали? Я знала, что харьковские подпольщики, державшие оккупантов в постоянном страхе и напряжении, в те дни особенно активизировались, и боялась, что попался кто-нибудь из руководителей. Мой начальник возбужденно носился из угла в угол. В кабинете тем временем шла необычная подготовка, стол накрывался скатертью, расставляли на нем вино, фрукты, сласти. Мне становилось все тоскливее. Кто же, кто? Что значат такие необычные приготовления?
— Приехал какой-нибудь господин из армии? — спросила я как можно небрежнее, усаживаясь в углу, где я всегда сидела во время допросов.
— А, чепуха, стал бы я тратиться на этих чинодралов из армии! — ответил шеф. — Гораздо важнее, гораздо интереснее! Наши сети принесли богатый улов. Сегодня прекратится проклятая неизвестность. Мы узнаем, какой сюрприз подготовили нам. Ого-го, это может спутать им все карты.
Я решила, что захвачен какой-то наш большой военный. Но, к моему удивлению, за стол сел не шеф, а его помощник, майор. Потом под конвоем часовых в комнату… внесли носилки. Их поставили у накрытого стола, солдаты с автоматами стали было у двери, но майор жестом выпроводил их. Того, кто лежал на носилках, мне не было видно. Между тем майор, напялив на свое лицо одну из самых сладких своих улыбок, попросил меня перевести «гостю», что он сам тоже летчик и рад приветствовать здесь своего доблестного коллегу, судя по отличиям, знаменитого русского аса. Когда было нужно, он мог притвориться приветливым, даже простодушным, этот майор, одна из самых омерзительных гадин, каких я только там видела. А я-то уж их повидала!
А на носилках лежал молодой, совсем молодой человек, в такой вот, как у вас, выгоревшей гимнастерке с тремя орденами Красного Знамени и еще какими-то знаками отличия. У него были авиационные погоны старшего лейтенанта. А его взгляд… простите, минуточку…
Девушка побледнела так, что лицо ее стало белее стены хаты. Она тяжело дышала, кусала губы, точно перебарывая в себе острую физическую боль. Потом встряхнула головой и пояснила:
— Не обращайте внимания. Нервы… Ноги у него были в гипсе, голова забинтована, но из этого марлевого тюрбана на меня вопросительно смотрели большие серые, такие правдивые и такие затравленные глаза.
— Фрейлейн, переведите, пожалуйста, коллеге, что кодекс воинской чести у нас неукоснительно соблюдается, что безоружный противник для нас уже не враг, что в новой Германии понятия мужества высоко ценятся, переведите, что в качестве, э-э-э, помощника начальника гарнизона и как летчик по профессии я буду рад выпить с ним бокал… э-э-э, нет, это будет не по-русски… чашу доброго вина.
Когда я переводила, серые глаза летчика остановились на моем лице. И столько в них было не ненависти, нет, не ненависти, а какого-то бесконечного презрения, гадливости, что слезы обиды, против воли, чуть не выступили у меня на глазах.
— Ничего я ему не скажу. Впрочем… пусть даст папиросу.
Летчик приподнялся на локте, взял сигарету и жадно закурил. Они оба молчали, я слышала, как потрескивает табак. Потом майор встал, щелкнул каблуками, назвал свое имя и учтиво заявил, что желал бы знать, с кем имеет честь…
— Пусть меня унесут, — ответил летчик и отвернулся.
И сколько майор ни бился с ним, он лежал лицом к стене и молчал. Я видела, как майор нервничает, кусает губы, как он играет желваками на лице. Я боялась, что он вот-вот сорвется, и тогда… я-то знала, на что способен этот человек. Но сведения о нашей авиации, должно быть, были нужны им до зарезу, и он сдержался, он приказал унести пленного и даже пожелал ему доброй ночи. Но как только закрылась дверь, он разразился ругательствами, хватил стакан коньяку и с совершенно измученным видом и блуждающими глазами бессильно бросился на диван. Вошел начальник. Меня отпустили и отвезли домой…
В эту ночь я не сомкнула глаз, хотя чувствовала себя совершенно разбитой. Этот летчик, его глаза смотрели на меня, и в ушах звучал его звонкий, молодой и твердый голос. Утром я хотела отправиться на явку, чтобы предупредить, что захвачен сбитый над городом советский ас, но не успела: к подъезду подкатила машина. Сам майор сидел за рулем.
— Нам приказано во что бы то ни стало выудить у него все об авиации. Есть данные, что он из этих новых частей, только что прилетевших сюда с Дальнего Востока. Фрейлейн, вы, именно вы должны поговорить с этим проклятым большевиком. Говорите ему, что хотите, только вытащите из него, что сумеете. В случае удачи, слово чести, вы заслужите Железный крест.
Я никогда еще не видела этого спокойного, хладнокровного карьериста-палача в таком волнении. Он так волновался, что тут же проболтался о том, что в Харьков из ставки прилетел какой-то их авиационный генерал, которому эти сведения нужны до зарезу. У меня не было выбора. Поговорить с летчиком один на один было даже полезно для дела. Можно было предупредить его. Но я вспомнила этот его взгляд, и мне, привыкшей все время жить под угрозой смерти, было страшно, именно страшно войти в его камеру. Вы представляете, кем я была в его глазах!
Но я заставила себя войти и, когда дверь захлопнулась за мной, подошла к нему. Со вчерашнего дня он еще более осунулся, похудел, глаза его раскрылись шире. Встретил он меня тем же презрительным взглядом. Мне показалось, что он даже как-то передернулся, когда я села на табурет возле его койки.
— Как вы себя чувствуете? Был ли у вас врач? — спросила я, чтобы как-то завязать разговор.
— У них ничего не вышло, теперь они натравливают на меня свою немецкую овчарку, — недобро усмехнулся он.
Я вспыхнула, слезы, должно быть, выступили у меня на глазах.
Голос у него был совсем тихий, он, видимо, очень ослаб за эту ночь, но он продолжал так же твердо и жестоко:
— Чего же краснеешь, продажные шкуры не должны краснеть!.. Вот погоди, попадешься ты к нам, там тебе пропишут.
Я едва сдержалась, чтобы не грохнуться тут перед ним на колени и не рассказать ему всего: так тяжело звучали в его устах эти оскорбления.
А он продолжал, все повышая голос:
— Думаешь, отступишь с немцами, убежишь от нас? Догоним! В самом Берлине сыщем! Никуда от нас не уйдешь, не скроешься!
И он захохотал. Нет, не нервно, у него, должно быть, вовсе не было нервов, он захохотал злорадно, торжествующе, как будто он не лежал весь забинтованный, умирающий во вражеском застенке, а победителем стоял в Берлине, верша суд и расправу.
И тогда я бросилась к нему и зашептала, позабыв всякую осторожность:
— Они ничего не знают. Они хотят узнать от вас о каких-то новых авиационных частях, прибывших с Дальнего Востока. Здесь страшная паника. Они боятся, смертельно боятся. Не говорите им ничего, ни слова. Особенно опасайтесь этого вчерашнего рыжего майора. Это ужасный человек.
Отпрянув от меня, он с удивлением слушал.
— Так, — сказал он и еще раз повторил: — Та-а-ак! — Глаза у него немного подобрели, но смотрели зорко и изучающе. — Та-ак, бывает… — Он усмехнулся, но уже не так зло и вдруг, подмигнув мне, закричал во весь голос: — Прочь, продажная шкура! Ничего я тебе не скажу, ни тебе, ни твоим хозяевам! Не добьетесь от меня ни слова!
Он долго кричал на всю тюрьму. Потом спросил тихо:
— Так вы…
Я кивнула головой. Я вся дрожала, зубы мои выбивали дробь, и я боялась, что лишусь сознания.
— Ну, успокойся, — сказал он, переходя на «ты». — И говори честно: мне конец?
— Если ничего не скажете — расстреляют, — сказала я, и мы опять испытующе посмотрели друг на друга.
— Жаль, очень жаль, мало пожил, а как хочется жить!.. Ну, ступай, ступай отсюда.
— Не надо ли что передать туда? — спросила я, глазами указав на потолок.
— У тебя очень измученные глаза, я тебе почти верю, — ответил он. — Почти. И все-таки ничего я тебе не скажу, так лучше и тебе, и мне, прощай, девушка… — Он вздохнул и опять принялся громко ругать меня на всю тюрьму.