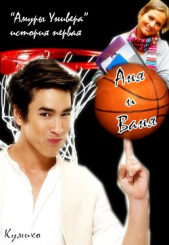Арифметика любви

Арифметика любви читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно. Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы водим гостей по парку, все веселы, шутят, смеются… Да, вот, должно быть, главное: очень они, итальянцы, жизнерадостны, всегда полны — неизвестно на что — надежд. Другой фон какой-то душевный; не оттого ли мы, русские, да еще эмигранты, их не понимаем?
Наши горы возглавляются острой, узкой вершиной, где когда-то был храм Юпитера. Доселе целы его мшистые стены, будто нечеловеческими руками воздвигнутые. В их гигантском кольце маленьким кажется средневековый монастырь. Туда ведет древняя римская дорога, «священная», тоже такими же гигантскими каменными глыбами выложенная, вымощенная.
Храм разрушен, но в ясные ночи, как в былые века, драгоценным камнем переливается над вершиной звездный Юпитер. Храм разрушен, но примирился ли с этим древний бог? Всегда оттуда, из-за острия, тянутся первые, черно-желтые, пальцы туч. Оттуда с воплем падает первый ветер. Ломает деревья внизу, — своих вековых дубов и стен храма не трогает. «Опять Юпитер сердится, — говорят жители нижних гор, — не быть добру».
Поздним осенним вечером мы стоим перед стеклянной дверью нашей лоджии. Смотрим, что за дверью делается, оторваться не можем. Все стоим, и сицильянка с младенцем, и растрепанная девчонка Джина, что днем таскает младенца по саду.
Там, за дверью, вместо огромного неба, огромные бело-огненные крылья машут, ни на миг не переставая. С высоты до земли быстрые, длинные взмахи, и земля под ними вспыхивает, и озеро горит синеватым пламенем. «Феста», — шепчет сицильянка, и правда, будто праздник, только не наш, человеческий. У нас даже слов нет для взмахов этих крыльев, для голубого огня их: трепет? блистанье? Не похоже ни на что. Вот только прямо перед нами падающие молнии похожи на толстые колонны из огня, у которых вдруг отламывалась верхушка. Разрушаясь, колонны падают — куда? Близко; а может быть, далеко, — в море.
Так мы и стояли, смотрели, слушали; неизвестно сколько времени. Потом пошли наверх, — там закрыты ставни, ничего не видно. Только грохот — взбесившаяся Юпитерова конница скачет по священной дороге. И так — до утра.
* * *
Октябрь. Мы покинули наш «почти-рай». Мы опять в Риме, — увы, ненадолго. Через несколько дней — Париж, дождь, мокрые тротуары, монпарнасские поэты…
Сегодня последнее воскресенье. Пойдем в гости к нашему знаменитому соотечественнику, «мудрецу на Тарпейской скале», Вяч. Ив. Иванову.
В Риме, после Парижа, все «рукой подать». Мы идем пешком.
Вот и волшебная лестница Капитолия. Волчицы не видно. Она спит. Да ее, кажется, перевели из левого густого садика в правый. Там тоже пещера.
Марк Аврелий на предвечернем небе. Что за величие покоя! В одном мановении руки — мир всего мира… Обогнув М. Аврелия, идем по узкой улочке, меж старых дворцов. Мы уже на знаменитой скале, сейчас дверь В. И-ва, но невозможно не остановиться на этой маленькой открытой площадке: под нами Форум, далее — Колизей, и все — в оранжевом пылании заката. Голос вечернего колокола, Ave Maria…
С крутой улочки в дом, где живет В. И., нет ступеней. Но старые дома на Тарпейской скале — с неожиданностями. Стоит пройти только через переднюю и маленькую столовую на балкончик — там провал. И длиннейшая, по наружной стене, лестница: шаткая, коленчатая, со сквозными ступенями, похожая на пожарную. Она спускается в густой зеленый садик. Но пусть об этом садике скажет сам его хозяин-поэт, в стихотворении, только что написанном и посвященном своей постоянной сотруднице, помощнице в научных работах. (Она же, эта изумительная женщина, и «гений семьи»: с В. И. живет его милая, тихоликая дочь, музыкантша, профессор римской консерватории, и сын студент.)
Вот эти стихи:
Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковницы и розы
И в гроздиях тяжелых лозы.
Над ним, меж книг, единый сон
Двух сливших за рекой времен
Две памяти молитв созвучных
Двух спутников, двух неразлучных.
Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим.
А струйки, в зарослях играя,
Журчат свой сон земного рая.
Кто из петербуржцев-писателей не помнит знаменитую «башню» на Таврической и ее хозяина? Минули годы (и какие!), все изменилось. Вместо башни — Тарпейская скала и «нагие мощи» Рима. Вместо шумного роя новейших поэтов — за круглым чайным столом сидит какой-нибудь молодой семинарист в черной ряске, или итальянский ученый. Иные удостаиваются «а parte» [148]в узком, заставленном книгами, кабинете хозяина… Все изменилось вокруг, — а он сам? Так ли уж изменился? Правда, он теперь католик; но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уже нет; но, седовласый, он стал больше походить на древнего мудреца (или на старого немецкого философа). У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие, любезные манеры, такие же внимательные, живые глаза. И — живой отклик на все.
Мы отвыкли от встреч с людьми настоящей, хорошей культуры. А какое это отдохновение! Вяч. И-в, конечно, и «кладезь учености», но не в том главное, а в том, что заранее знаешь: с ним можно говорить решительно обо всем; он поймет значительность всякого вопроса, в любой области. Как он сам на данный вопрос отвечает — уже не столь важно: мы иногда не соглашаемся, спорим, но спора не делим; взгляд В. И. сам по себе всегда интересен, любопытен; споры же — бесполезнейшая вещь на свете.
Но особенно живо воскресла передо мною «башня», когда мы заговаривали о поэзии, о стихах. Мы привезли в тарпейское уединенье несколько томиков современных парижских поэтов. Утонченный их разбор, давший повод к длинным речам о стихах, о стихосложении вообще, — как это было похоже на В. И. тридцать лет тому назад! Скажем правду: в этом человеке высокой и всесторонней культуры, в этом ученом и философе, до сих пор живет «эстет» начала века. И, может быть, «эстета» в себе он больше всего и любит.
Невольная зависть. В самом деле, что такое новейшее наше разочарование в эстетизме, в литературе, в силе слова? Ведь это, пожалуй, только дань безумным «темпам» нашего времени, погоне за всяческой «актуальностью». Искусство требует мира и тишины; а нам некогда слушать голос муз, мы слушаем радио.
Так или иначе, жители Тарпейской скалы счастливее многих из нас. У них и садик, «земной рай», и музыка, и книги, и научный труд, и стихи, a Ave Maria из-за римского Форума…
Но не будем завидовать. Лучше порадуемся за них.
Рим. Октябрь, 37 г.
ЗАГАДКА НЕКРАСОВА
…Что же случилось со мною? Как разгадаю себя?..
Некрасов
Некрасов, для людей моего поколения, — детство; самое раннее, почти младенчество. Некрасов, — без имени, конечно, — в песенках: дедушка за винтом, мурлыкающий приятно-непонятное: «разбиты все привязанности…» или тетя за роялью: «жадно глядишь на дорогу…», «молодость сгубила… два-три цветка…». И сколько еще другого всякого пения! Это правда, что главное свойство поэзии Некрасова — «песенность». Не напевность, о, нет! а именно песенность (лучших вещей, конечно): критика отметила ее справедливо. В песнях он тогда еще и оставался живым, да, пожалуй, в разных «крылатых» словечках и строках, которые мы слышали от «больших» и так запомнили (детская память!), что и через тридцать лет встречаем, словно старых знакомых. Но и только. Во времена моего — нашего — детства Некрасов, думается, был уже на кончине. Научившись читать, мы читали его в хрестоматиях, и даже книжки его, но читали (я и мои сверстники) не как стихи, а как рассказы. «Влас», «Коробейники», «Саша» — разве не рассказы, довольно интересные? Стихи же совсем другое. Стихи — это Лермонтов, но и какая-нибудь случайная дрянь в случайном томике, казавшаяся, по тогдашнему чувству, ближе к Лермонтову, чем к Некрасову. Сатиры его даже меня, с моей ранней склонностью к сатирическим стихам, к эпиграмме, глубоко не интересовали.