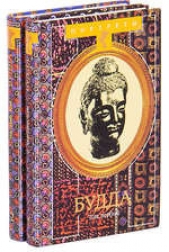На сопках Маньчжурии

На сопках Маньчжурии читать книгу онлайн
Роман рассказывает о русско-японской войне 1905 года, о том, что происходило более века назад, когда русские люди воевали в Маньчжурии под начальством генерала Куропаткина и других царских генералов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А река была удивительно вольная: серо-голубая, она катилась меж округлых сопок, сидевших одна подле другой, как шапки. По ней плоты плыли, а на плотах переселенцы, — всё дальше на восток, всё дальше. Шли баркасы под парусами, и шли баржи с каторжанами.
Партию погрузили в баржу. Над люком возвышалась железная клеть. Каторжник поднимался по трапу и вступал в клеть. Здесь его обыскивали. За борт летели осьмушки махорки, папиросы, спички, мундштуки, карандаши, бумага, письма.
Грифцов удивлялся остервенению, с каким солдаты обыскивали арестантов. Это была не просто обязанность. Солдат был научен остервенению, научен радоваться своему остервенению… Страшная система!
Когда последний каторжник прошел через клеть, люк захлопнули.
Ни воздуха, ни света, ни места.
И до того в этой удушливой темноте было скверно, что даже обычная в таких случаях ругань не срывалась с языка людей. Все притихли. Слышно было, как плескалась в тонкие борта Шилка; топали по палубе сапоги, изредка доносились голоса. Почти не кормили.
Через неделю Грифдову казалось, что вообще вся его жизнь только и была, что в этой барже, все остальное — Питер, подполье, друзья и даже недавняя тюрьма — приснилось, вот так он только и существовал в этой затхлой, удушливой яме.
Наконец люк откинули до отказа, ворвались потоки света и воздуха, надзиратель кричал:
— Выходи по одному!
Грифцов вышел — и почти ослеп от яркого солнца, закачался от чистою воздуха, перед его глазами неслась полноводная река, ветер нагонял волны, начесывал пенные гребни, срывал с них пену. Ничего не было в мире лучше этой реки и чистого воздуха.
На берегу выстроился новый конвой.
— Это что у тебя за мешок? Весу-то в нем, спрашиваю, сколько? Оставить! С таким грузом не дойдешь. Здесь, на берегу, оставь, подвода подберет…
Так приказывали всякому, у кого мешок был хоть сколько-нибудь объемистый.
Сосед Грифцова, приземистый мужчина с непомерно широкими для его роста плечами, не хотел расстаться с огромным мешком:
— Я донесу его, господин конвойный!
— Я тебе снесу… — Конвойный ударил его прикладом. Каторжный охнул и присел…
— Я тебе присяду! Оставить мешок!
Длинной лентой вытянулась партия. Дорога круто поднималась на сопку. Прошли саженей пятьдесят, и вдруг приказ:
— Кто оставил вещи — взять! Остальным — идти!
Хозяева мешков бросились назад. Но ведь все в кандалах!
Грифцов несколько раз оглядывался, чтобы посмотреть на приземистого, тот легко подхватил мешок, но нелегко было догнать партию, которой конвойные, не позволяли уменьшать шаг.
Когда измученный человек достигал своего места, конвойный сбивал его с ног прикладом и кричал:
— Не отставать, сволочь! Еще раз отстанешь — забью!
У Грифцова порвался подкандальник; остановиться, поправить — дело пустяковое; он и решил это сделать, но едва нагнулся, как увидел конвойного, бежавшего к нему с поднятым прикладом.
Каменистая дорога извивалась среди сопок, покрытых пышной тайгой.
С каким вожделением поглядывали люди на чащу, но конвойные не спускали с арестантов глаз. И потом: что будет с тобой, если ты даже и скроешься в чаще? В кандалах, без оружия, даже без складного ножа в кармане!
Грифцов внимательно рассматривал тайгу. Амурский мир был поистине пышен и приволен; склоны сопок поросли пихтой и лиственницей, на скалах лепились кедры, огромные яблони стояли у ручьев… С перевалов открывался бесконечный ряд вершин, то мягких и круглых, то острых, зубчатых. Это была настоящая горная страна, к которой еще не притронулся человек.
На привалах, пока варили похлебку, Грифцов ложился в траву. Среди трав он нашел мяту и дикий лук, чеснок и ромашку… А вот табак…
Занятия местным природоведением?! Но по этому краю придется бежать! Надо знать о нем как можно больше!
Белок много. Они шли целыми косяками по вершинам дерев, тонко и весело посвистывая. Бурундуки не боялись людей и выглядывали из своих порок под корнями кедров.
Мучила мошка. Воздух был мутен от неисчислимого количества этих существ; они забирались всюду. Лица вспухли, тело горело. Бороться с ними было невозможно. Грифцов лечился психически: он отделял себя от зуда и боли в своем теле. Боль существовала сама по себе, а Грифцов — сам по себе. И, надо сказать, в этом трудном искусстве он добился некоторых успехов; во всяком случае, не приходил в то раздраженное неистовство, в котором жили и каторжники, и конвойные. Ругань и удары прикладами облегчали сердца конвойных, но сердец арестантов не облегчало ничто.
На пятый день подул юго-восточный ветер, низкие тучи летели из-за Амура. Мелкий пронзительный дождь сек землю. Все исчезло: горы, тайга, зверь, даже мошка. Дорога ползла под ногами, колонна проходила в день по две версты. На привалах костры не разводились. Конвойные командовали: «Ложись!»
Надо было ложиться там, где стоял, — в жидкую, струящуюся грязь, Не разрешалось приподнять голову.
— Ложись! Не то…
Как в барже, так и теперь казалось: ничего в мире нет и не было, кроме дождя. Один мелкий, все пронизывающий дождь!..
Наконец пришли в лагерь — место жительства! Место каторжного труда — колесуха!
Долина, вдали сопки. Болото. Тучи, Тот же дождь. Первые три дня приводили в порядок палатки. Ветхие, дырявые, они не защищали ни от дождя, ни от ветра, Ставили латы, но из той же гнили. Окапывали палатки, но земля ползла под лопатами. В палатках было так же зябко и мокро, как и вне палаток.
Приземистый сказал:
— Мне — пятнадцать лет каторги, отбыл два года… На колесухе тринадцать лет, что ли?..
Когда тучи поднялись выше, стало видно, что перед лагерем тайга, за ней — вершины сопок, справа — топь, а на юг, совсем недалеко, Амур.
Амур!.. А ведь за Амуром — воля!
В четыре утра подымали на работу. Рыли канавы, резали дерн, возили песок, дробили молотами щебень, валили тайгу, выворачивали камни — прокладывали дорогу.
Инструмент был скверный: лопаты гнулись, топоры не рубили, ломаные тачки не возили.
Грифцова пропустили к начальнику лагеря капитану Любкину.
У Любкина в палатке было сухо, горела печка, на столике — вино и закуска, какая-то женщина, по-видимому не жена, но выполнявшая ее обязанности, сидела на койке.
— Что? Тачки ломаные? — спросил Любкин. — И топоры тупые?
Он с искренним удивлением рассматривал Грифцова, потом захохотал:
— Остолоп! На то ж и каторга! Кругом — марш!
Через некоторое время Грифцов уже знал, что Любкин на колесухе богатеет с каждым днем. Жалованья арестантам полагалось по тридцать копеек на день. В лагере триста человек. Не выдавалось никому ни копейки. Полагалась смена одежды, Не выдавалась. Деньги шли в карман Любкину. Вместо фунта мяса на день — полфунта. Вместо трех фунтов хлеба — два.
Поэтому Любкину не было смысла торопиться с работой. Пусть ломаные тачки, тупые топоры, непилящие пилы. На то и каторга!
Лагерь был разбит по артелям: десять человек — артель. И на десять уголовных — один политический.
Конвойные развлекались порками и истязаниями арестантов. Били за провинности и не за провинности. Приземистого, который оказался одесским евреем, ежедневно били за то, что он еврей. Били за очки, за длинные волосы, за чистую рубаху: смотри, как вырядился, о бабе думаешь? Били за грязную рубаху.
Жизнь на колесухе казалась нереальной, выдуманной, и, когда утром вставали, не верилось тому, что вокруг, и, когда резали, копали, валили и вечером пели: «Спаси, господи, люди твоя…», не верилось, что в самом деле режут, копают и поют.
Через месяц бежали трое уголовных. Их поймали казаки из соседней станицы и доставили в лагерь. Конвойные повалили беглецов прикладами, связали ноги и за связанные ноги волокли лицом по земле.
Один из бежавших умер. Двоих стали пороть. И тут уж засекли насмерть.
Любкин одобрил действия подчиненных и лично каждому поднес по стакану водки.
Трудно отсюда было бежать. Грифцов смотрел на себя в осколок зеркала и не узнавал: зарос, — кроме волос, ничего на лице не было. Впрочем, были глаза, но какие-то чужие, в красных распухших веках.