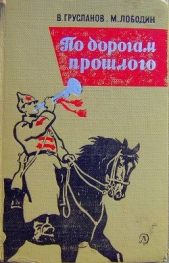По дорогам идут машины

По дорогам идут машины читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Герасим — парень красивый, статный, только после войны у него не работает одна нога, и он ходит с костылем. Чуть ли не в самом Берлине он угадал на своем грузовике под снаряд и потерял ногу.
В общем в эту ночь Лешке убежать не удалось. Вечером пришел дядя Федя и сказал маме, что хочет говорить с ней официально, как с председателем колхоза, о важном деле по секрету. Мама стала выгонять Лешку из избы. Лешка не уходил, потому что на улице был трескучий мороз — такой мороз, что мы не ходили в школу и воробьи замерзали насмерть. Тогда дядя Федя посулил поучить Лешку завтра на сверлильном станке, и Лешка пошел к Любиму. Как только Лешка ушел, мама хотела выгнать меня, но я стал храпеть и нескладно говорить, как во сне, и меня не тронули.
Мама засветила лампу, и все сели за стол. Дядя Федя закурил и сказал, что кто-то повадился лазить на базу МТС и что он второй раз замечает чужие следы на дворе. Вор ходит на МТС чудной, и дядя Федя не понимает, чего ему надо — ничего он не берет, даже дорогих вещей не берет, и какое-то магнето, которое лежало на тракторе, так и осталось на месте.
Мама вздохнула. Я позабыл, что надо храпеть, и стал слушать.
Мама сказала, что лазает кто-нибудь из мужиков, потому что бабам железное ломье ни к чему, а керосин дядя Федя и сам дает.
Стали перебирать мужиков.
Нас, мужиков, в деревне, вместе с дядей Федей, одиннадцать душ.
Дядя Федя, конечно, не полезет, потому что он сам директор МТС. Слесарь и механик тоже не полезут. Про двух братьев Ивиных долго говорить не стали. Эти братья — ровно святые: у самих в избе нет ничего, а как избу-читальню стали оборудовать, они стол и занавески туда снесли. Мог бы слазить дедушка Гуторов, но к нему два дня воротился сын с японского фронта, и им обоим теперь не до того. Другой дедушка — Любим — до того пуглив, что не то что на базу, а в сенцы ночью выходить боится. Бабка светит ему, пока он сидит, — про это все знают.
Остались Лешка, я и Герасим. Герасима тоже разбирать не стали, потому что у него одна нога, он орденоносец и работает в сельпо, а про меня дядя Федя сказал, что через забор мне не перелезть, если мамка не подсадит.
Конечно, дядя Федя хороший человек, но иногда бывает нечестный. Когда я ему нужен, так он и так, и сяк, и Василием Иванычем называет, и докурить дает, а за-глаза — смеется. Я-то, если надо будет, — перелезу, а вот интересно, как он, со своим животом, полез бы…
Так перебрали всех, кроме Лешки.
Мама сказала, что за Лешку она ручается, а дядя Федя вспомнил, как в прошлом году Лешка стащил у военных противогаз. Мама ответила, что Лешка ничего, кроме яблок, не брал, и стала все время сморкаться. Тогда дядя Федя засмеялся и пообещал поставить на базе капкан с пружиной и выяснить, кто в нашей деревне вор.
Они долго еще говорили между собой о том, как исправлять Лешку, и мама подкручивала фитиль лампы, а я, сам не знаю когда, заснул, и мне приснилось, будто Лешка сидит в капкане, смеется и ест яблоки.
На другой день я узнал, что Лешку назначили сторожем на МТС и за ночь ему будут записывать по семьдесят пять соток.
Так он никуда и не убежал…
Вечером я пошел его проведать. Падал снег. Лешка ходил вдоль забора в большом тулупе с поднятым воротником и сзади был похож на птицу пингвин, которая живет на Северном Ледовитом океане.
Подмышкой у Лешки была маленькая винтовка, такая пушистая от мороза, что на прикладе можно было бы писать пальцем. Ствол Лешка заткнул бумажкой, чтобы внутри не заржавело.
Как только я подошел, Лешка стал хвастаться своей винтовкой. Он сказал, что дядя Федя дал винтовку в полное его распоряжение. Потом он полез в карман и достал пульку, завернутую в тряпочку. Он сказал, что если не будет вора, утром эту пульку он может истратить куда хочет, хоть на ворону, а на следующую ночь дядя Федя даст другую.
Я попросил подержать винтовку. Лешка обещал дать, если я разложу костер. Я натаскал еловых лапок, которые мы выставляем за канавами, чтобы не заносило дорогу, нащепал щепок… Интересно горят лапки. Когда ее бросишь в огонь — она сразу не горит. Сначала от нее идет дым, густой и белый, как вата. Потом она вдруг занимается вся сразу, ровно на нее прыснули керосину, и все иголки до одной накаляются докрасна. Она начинает изгибаться и поворачиваться на огне, как живая, и наконец распадается на куски, а снег вокруг нее шипит и тает.
Я разложил большой костер, лазил по сугробам, натаскал веток прозапас, а когда стал вытряхивать снег из валенка, Лешка вспомнил, что часовые передавать оружие не имеют права. Я хотел было раскидать огонь, но Лешка полез в карман за пулькой, и я не стал с ним связываться. Подумаешь — винтовка! Если бы настоящая, а то — мелкого калибра. Из нее, когда стреляешь, так и звука никакого нет, ровно спичку вычиркнешь. Вот в прошлом году мне партизан давал держать настоящую винтовку, на которой было девятнадцать зарубок, — так то винтовка!
Ночь у Лешки прошла тихо. Никто в МТС не лазил.
Когда я шел в школу, он сидел с дядей Федей, и дядя Федя хвалил его. Лешка увидел меня, усмехнулся и показал ногой на черную дыру в снегу, которая осталась от костра. Он, наверно, думал, что я заругаюсь, но я даже и не поглядел на него. Но когда Лешка пристал ко мне дома, я решил немного попугать его, чтобы он не зазнавался.
Бабинские ребята, если хотят пугать, так делают Гитлера: возьмут тыкву, выскребут из нее зерно и мясо, вырежут на корке глаза, нос и рот с зубами, а потом положат внутрь горячего уголья, насадят тыкву на шест с перекладиной, накинут на перекладину шубу, шкурой наружу и несут этого Гитлера ночью под окна. Если спросонья его увидать, так здорово боязно.
Вот, тайком от мамы, я сделал эту фигуру, вырядился и пошел. Ночь выдалась плохая, светлая. Тень от Гитлера ложилась на сугробы такая черная и лохматая, что самому становилось страшно.
Я дошел до забора МТС, прокрался до угла и потихоньку стал наклонять шест. Но у меня ничего не получилось. Наверное потому, что ночь была светлая, Лешка ничуть не испугался. Как только он увидел тыкву, так сразу догадался, что это я.
— Васька, — сказал он. — Иди-ка сюда, быстро. Бить не буду.
Я подошел.
— Слышишь? — спросил Лешка шепотом.
Я прислушался. Забор был сделан взакрой, без щелей, и поглядеть во двор мы не могли, но по базе кто-то ходил. Все время оттуда слышался тихий скрип сухого снега. Странный какой-то скрип. Вор как-то не по-людски ходил.
Мы с Лешкой долго стояли притаившись. Человек хлопнул дверью в мастерскую, зашел под навес, загремел железом и снова пошел по двору.
— Надо бы стрельнуть, — посоветовал я, — хоть в воздух.
Лешка признался, что истратил патрон еще вечером, и теперь боялся, что ему влетит от дяди Феди.
— Тогда давай пугнем вора Гитлером, — сказал я.
Лешка согласился. Я забрался ему на спину и поднял тыкву. Шаги затихли.
— Сейчас он через забор полезет, — торопливо зашептал Лешка. — Слезай! Давай, я к этому углу побегу, а ты к тому. Сейчас мы его накроем.
Я не захотел итти на угол со своим шестом. Лешка стал спориться, ругаться и замахиваться. В общем, он так и упустил того, кто лазил на базу.
Утром Лешка стал подкатываться ко мне лисой, чтобы я ничего не говорил дяде Феде, и даже дал подержать винтовку. Но дядя Федя все узнал сам, и Лешке была баня. Дядя Федя сказал, что сам будет караулить свои тракторы, а такого сторожа, как Лешка, ему не надо. Но Лешка все-таки уговорил его, и они условились эту ночь сидеть вместе. Я хотел пойти с ними караулить, но проспал: как лег после ужина погреться, так и заснул.
Проснулся я ночью — не зная, сколько времени. Мама спит.
Слышу — шумят машины, и изба тихонько дрожит, и ведро постукивает дужкой, и белый след окна проползает по стенке и по потолку.
Я обулся и вышел.
Как и в прошлую ночь, светила луна и все кругом белело и поблескивало, только небо было как закопченное стекло. С вечера подморозило, и лужи покрылись темным пузырчатым ледком. Если наступить на такую ледяшку, то она не сломится, а только хрустнет, как сухарь, и внутри ее останутся белые трещинки.