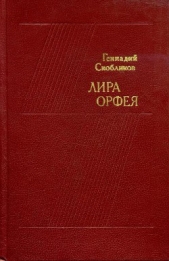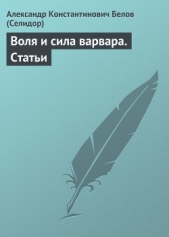Старослободские повести
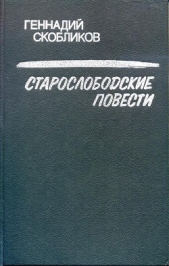
Старослободские повести читать книгу онлайн
В книгу вошли получившие признание читателей повести «Варвара Петровна» и «Наша старая хата», посвященные людям русской советской деревни. Судьба женщины-труженицы, судьба отдельной крестьянской семьи и непреходящая привязанность человека к своей «малой родине», вечная любовь наша к матери и глубинные истоки творчества человека — таково основное содержание этой книги.
Название «Старослободские повести» — от названия деревни Старая Слободка — родины автора и героев его повестей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Может быть. Целыми частями, случалось, в плен попадали. Такая вышла война...
Долго проговорили они тогда, обдумывали, как ей быть, что делать. Что в покое ее теперь не оставят, это было ясно; что будет — не знали.
— Ладно, не убивайся здорово, как-нибудь образуется, — успокаивал ее Егор Иванович. — Я буду в районе — поговорю там кое с кем.
Домой она пошла по заброшенной дороге через Святой лес. Не хотелось ей ни с кем встречаться, хотелось побыть одной.
Святой лес начинался сразу за бывшим барским садом. Он рос по крутым склонам глубокого лога, выходившего к нелюдимому месту на болоте. Лес этот небольшой, но густой и мрачный, особенно в логу, волки тут исстари устраивали свои логова, и без нужды люди старались не ходить через него: даже днем тут как-то жутковато. Но разве волков ей было бояться теперь!..
Перед спуском в лог она остановилась. Лес круто опускался вниз, так же круто поднимался вверх на той стороне лога — и был весь перед глазами. День уже склонялся к предвечерью, было солнечно и тихо, и страшноватый Святой лес стоял безмолвым и красивым в своем последнем осеннем наряде. Коричневатой синью отливал густой облетевший орешник, тусклой медью мрачнели на солнце дубы, огнем полыхали клены, в фиолетовых чащах вязов тут и там краснели нетронутые кусты рябин...
Она видела перед собой эту осеннюю красу леса, не без робости ощущала полное свое одиночество тут, в этом тихом и жутковатом логу, какой ей предстояло еще миновать... а сама продолжала вести сам собой возникший у нее — то молчаливый, то вслух — разговор с кем-то другим: может, с теми, из района, кто прислал ей эту страшную бумагу, что несла она теперь домой, а может, и еще с кем-то ...разговор, который, хотелось бы ей, могли слушать и другие добрые люди и сказать, права она или не права.
— ...Что ж это? — говорила она. — Как же это? Ну, может, и правда — попал он в плен. Так что ж из этого? Ить война. А на войне разве бывает, чтоб никто не попадал в плен? И ихние попадают, и наши. Вон Егор Иванович говорит: бывало — целые части окружали. Что ж, все они предатели? Так и Мишка. Может, окружили их и выйти никак нельзя было, а может, раненый попал. Ить никто ж не знает, как оно получилось там. И тот же Андрей: то говорил, что убило Мишку, а теперь — что попал он в плен, Мишка, — и что? Кто знает, как и что там дальше было? Никто же не сообщал оттуда, от немцев, что́ там делает Мишка. А тут сразу: изменник, предатель. Егор Иванович — он правду же говорит: кого — мать с отцом, жену, детей своих будет он предавать?! И кому — гадам этим? Понасмотрелись они тут на них за два года оккупации, а Мишка там, на фронте, насмотрелся, небось, какие они! Да и не такой он, Мишка: уж она-то получше других знает его. Чего-чего — но чтоб сдаться? И дурак он, что ли, не знает, что́ немцы делают с пленными? Расстреляют, или угонят к себе в Германию — а там все равно уморят. Андрей, значит, не сдался — а Мишка сдался? Вы б взяли да спросили в деревне — у кого хотите спросите: могло бы быть, чтоб Мишка звал Андрея сдаться немцам? Весь народ глаза этому Андрею заплюет — потому что не такой он, Мишка, и люди знают это. А вы вот взяли и поверили одному Андрею. Чем же это он доверие ваше заслужил, чем же это он такой хороший, что вы сразу и поверили ему? Что раненый пришел? Так, если так рассуждать, то тоже еще неизвестно, как там его ранило. Она, конечно, тогда зря сказала, что дезертир он — сам себе в руку выстрелил: не была, не видела — и говорить нечего. Но и кто б сдержался, когда он про ее Мишку такое! Он же сам, гад, вынудил ее — а теперь мстит, значит? Так и не при людях она ему сказала, мог бы потом поговорить с ней — и на этом бы делу конец. А он поехал доносить на Мишку. Теперь вот и она думает: может, у него, у рыжего гада, у самого рыло в пуху — вот он и полез выслуживаться. Ить если б он, Мишка, по правде уговаривал его сдаться, а он, Андрей, не согласился и такой вот честный он — чего же он не донес на него там, на фронте? А то ить оттуда-то сообщили, что Мишка пропал без вести: значит, командиры его не думают про него, что сдался он. А тут стоило только какому-то Андрею сказать слово — и уже предатель Мишка! Чего ж это вы сразу верите плохому — а не хорошему? Отчего вы такие там? Покойная мать, царство ей небесное, говорила бывало: зло — оно от зла и идет. Так откуда же оно у вас зло: скажут плохое про человека — а вы верите, хоть и не знаете, какой он, этот человек. А ей вот теперь? Что ей делать? Что людям сказать? И что скажет она сейчас дома детям? Вы-то что посоветуете ей сказать им? Что отец их предатель, что он изменник? Так она никогда не скажет этого, хоть стреляйте вы в нее и в детей ее — никогда не скажет! ...А как она расскажет им — отчего вы поверили этой клевете Андрея? ...Ему-то, Андрею, они, Мишкины дети, до самой смерти не простят этого. Да и дети Андрея из-за отца своего тоже будут на Мишкиных детей всю жизнь волками смотреть: разве они не будут знать, как думают об их отце Мишкины дети? Чего же вы там про это не подумали, прежде чем на слово поверить Андрею? Ну ладно, отказали б в пенсии: мол, до выяснения, что там и как — а зачем же детям-то говорить, что их отец предатель? Как они завтра в школу пойдут, как будут другим в глаза смотреть? Чего ж вы об этом не подумали там, если вы такие умные и вам власть дана!..
Под ногами шуршала сухая листва, ноги скользили по ней на крутом склоне, и она, чтоб не упасть, цеплялась за ветки орешника. Ее разговор иссякал, все доводы вроде кончились, но ей хотелось говорить и говорить еще.
— ...Чем же хуже Андрея — Мишка, что Андрею вы поверили, а Мишке нет. Работал хуже или пил больше? Так спросите у людей, они скажут, как работал Мишка. И как работал Андрей — тоже спросите, люди скажут. И как теперь, когда стал председателем над бабами, как он ходит рюмки сшибает — люди тоже скажут. Вы посмотрите, каким становится человек, когда ему над людьми власть дана, — и узнаете, какой он. Чего ж вы не смотрите? ...И на войне: ни за что она не поверит, чтоб Мишка хуже его воевал. Вы спросите: уступал Мишка когда кому в драке? Он хоть и редко дрался, но если уж приходилось, то в обиду ни себя, ни друзей не давал, да и кулак у него слава богу!.. А там, на фронте, он, стало быть, хуже других стал?..
Ее заметили сороки и подняли над ней свой панический стрекот. Она слышала их — и словно не слышала. Она была уже в самом низу лога, где водой промыло почти отвесный ров, и перебиралась теперь через него.
— ...Да и солдаты, — продолжала она, — как им там приходится! Когда пришли наши, стояли они у них в деревне на постое. В марте было, самая распутица, а они пешие бог знает откуда пришли. Промокшие все, голодные... Знамо дело, как оно там воюется. Им-то, бабам с детишками, хоть и трудно, да все-таки они дома, под крышей. А солдатам?.. Небось, тоже люди они, не каменные. И если, не приведи господь, с кем из тех, что стоял тогда у нее, случится несчастье, как и с ее Мишкой, — что ж, и ихним женам и детям будет так же вот, как ей теперь? ...И кто вы сами, что сразу вот так решаете за других? Если вы такие хорошие — чего ж вы тут, а не на фронте? Вон у них в деревне — сколько девок ушло с санитарным батальоном! Никто не приказывал, сами собрались и ушли следом за фронтом. А вы чего ж сидите тут, над бабами командуете?..
Запас ее доводов иссяк, больше говорить было нечего. Да и не хотелось. Она и так вроде как облегчила душу: высказала свое, пусть и не слышат и никогда не услышат ее они. Пусть!.. Бог даст, придет время — и все тогда всплывет наверх. Брешут, не все такие: мир — он все-таки на праведных людях держится. А правда — она одна, и люди всегда знают, с кем она живет...
— ...День-деньской работаешь, как каторжная, — перешла она на их бабью жизнь. — Весной сев настал — на чем пахать да боронить? Позапрягали своих коров да и поехали пахать колхозное поле. И на себе пахали: пятнадцать человек впрягутся в плуг, пупки у баб трещат — а тянут, пашут. И сеяли, она тоже сеяла: пудовую мерку на живот — и таскаешь ее целый день, ни рук, ни ног, ни спины не чуешь! А ить и дома надо — кормишься-то огородом. Пятьдесят соток этих — их же и вскопать надо, и посадить ту же картошку, бурак, соток пять проса посеять, чтоб было из чего кашу детям сварить. Сама утром, еще до колхоза, поднимешься чуть свет и уже бежишь с лопатой на этот огород. Да и девок тоже чуть свет поднимаешь: поедят блинов — черных чибриков из прелой картошки, что вчера на том же огороде насобирали, и идут тоже с лопатами. Придешь с работы, посмотришь: не лодырничали, трудились дети — а все кажется, что мало сделали, все хотелось бы, чтоб побольше вскопали. А ить им еще и в школу надо. Средние две ходят, а старшей пришлось бросить, с пятью классами так и останется теперь. ...А еще надо обуть и одеть их, всех четырех. А где взять, с чего? А тут вон заем триста рублей, налогу — тыща, самообложение — сорок, страховка, за школу плати — все чистой копейкой. Да и так: молоко, яйца, мясо, картошку, хлебом — все сдают. Золу из печи выгребаешь — в сарай несешь, ее в колхоз велено сдавать. Куриный помет — тоже в колхоз надо сдать. И не говорит же она, что не надо: хлеба в колхозе не будет — откуда ж вы его брать будете!.. А ночь настанет — за этот проклятый самогон берешься. И все под страхом: бурак паришь — трясись, как бы облавы не было, стоит в кадушке — трясись все дни, ночью не спишь, гонишь — опять трясись. А что они, бабы, сами, что ли, пьют его! Ить только и копейка в доме, что за него: и налоги платить, и себе купить. Те же чернила у торговок из города, лист бумаги, каустик на мыло, бутылку керосина — все за него. Животы чугунами понадрывали, ночей из-за него, проклятого, не спишь. ...А тут и эти семьдесят рублей назад забрали. Ладно уж, бог с ними, с этими деньгами, проживет она и без пенсии. А и обидно. И кому вот сказать, кому пожаловаться!.. Только и скажешь себе: терпи, баба, такая уж твоя доля...