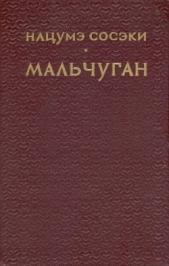Неоседланные лошади

Неоседланные лошади читать книгу онлайн
«Мой бедный народ, тебя всегда убивали молодым, — думал Комитас, — поэтому ты не смог сказать свое слово миру, поэтому ты не умираешь и каждый раз рождаешься вновь, чтобы сказать это слово. Древние народы говорят о тебе, что ты один из древнейших на земном шаре, но им неизвестно, что ты, тысячекратно убитый, самый юный из юных».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лошадь осторожно переступила через ручей и пошла вверх. Лай собак и блеяние овец уже не были слышны. Бык, такой же старый, как она сама, лежал на дороге, жуя губами. Лошадь поздоровалась с ним и прошла мимо, не получив ответа. Во мгле проносились табуны диких неоседланных лошадей, она спешила к ним. Они сейчас пасутся где-то, пасутся где-то там, в горах.
Утром, выйдя из палатки и не найдя возле нее лошади, художник поспешил к табунщику.
— Куда она девалась? — спросил он.
— Кто ее знает, может, в горы поднялась.
— А нельзя ли за ней послать кого-нибудь?
— Это зачем еще?
— Она же может пропасть.
— Вернется — ладно, не вернется — еще лучше.
— Как же это так?
— А вот так. Она уже никому не нужна — не годится ни под седло, ни в упряжку.
Художнику вспомнился старик сосед. Сын говорил, что ему уже за сто лет, и все с ним соглашались. Невестка не разговаривала со стариком, и он целыми днями просиживал во дворе, все курил и ждал, когда же его позовут домой. Но никто его не звал, и старик иногда оставался на дворе до поздней ночи. Он обижался на сына, невестку, внуков, вспоминал давно умершую жену и Ван [3] и говорил сам себе:
— Я уйду в Ван.
Он поднимался с места, закуривал самокрутку и брел куда-то по улице.
Никто не знал, где находится его Ван, но всякий раз, отправившись в Ван, он возвращался поздней ночью и рассказывал удивительные вещи. Он говорил, что повидал мать, отца, жену, братьев, играл с друзьями детства, ловил рыбу и ел фрукты из своего сада.
Сына не интересовало, где был отец. Он никогда не видал Вана и каждый раз, когда отец собирался уйти в Ван, говорил:
— Старик совсем спятил.
— Ну и пусть себе уходит, — верещала жена, — хоть бы и вовсе не возвращался.
И чем больше он старился, тем чаще повторялись эти уходы в Ван. Однажды, когда старик возвращался из Вана, художник повстречал его и спросил:
— Погос-ага, что нового в Ване?
— Ван, да не рухнет твой очаг, — печально ответил старик, — разорили мой дом, огнем спалили. В Ване собакам житье, а людям нет житья. Эх, Ван, Ван…
Он не стал в этот раз рассказывать длинных историй, а понурив голову, поплелся домой, но, дойдя до дому, повернул обратно, говоря:
— Здесь никто меня не ждет, пойду в Ван. Разорили мой край, мой город, хочу умереть там…
И ушел.
В эту ночь он не вернулся. Лишь на следующий день сын и невестка стали его искать. Спустя два дня старика нашли мертвым за городом, на берегу реки.
— Он шел в Ван, — сказал сын, — каждый раз уходил и возвращался, но я знал, что когда-нибудь он не вернется. Выжил из ума старик.
Сын никогда не видел Вана, родители бежали оттуда, когда он только родился, и он никак не мог взять в толк, зачем это отцу понадобилось уходить в Ван.
Художник задумчиво посмотрел на табунщика, потом сказал:
— Она нужна мне, я ее рисую, — он почувствовал, что это звучит не очень убедительно, — и потом не пешком же мне уйти с гор!
— Дадим другую лошадь.
— Но я хочу уехать именно на ней.
— Дело твое, — недовольно поморщился табунщик, — коли так, пошлю кого-нибудь на поиски, вряд ли она далеко ушла.
Но она ушла далеко, и вернули ее лишь к вечеру. Глаза старой лошади были печальны, и художник увидел эту печаль.
На следующее утро он покидал горы, но не стал седлать лошадь.
— Не надо, я не буду на нее садиться.
Стояла осень, они покидали горы. Впереди двигалась отара овец, потом стадо, а позади всех шагали художник и старая лошадь. Иногда они оборачивались и смотрели в сторону гор. В горах стоял туман, вершины гор были покрыты тучами, в глубине этих туч притаился снег.
Лошадь насторожилась, замерла. Ей почудилось, что по кромке гор пронесся табун диких кобыл. Губы ее дрогнули, глаза стали еще тоскливее, и, откинув голову, она снова заржала.
Ржанье ударилось о гору, отдалось эхом. Лошадь повернулась к горам, порываясь вернуться на собственный зов.
— Куда ты? — спросил художник.
Она остановилась.
— Ну, пойдем, пойдем, старина, уже поздно, мы с тобой отстаем.
Отара давно уже сошла вниз. На дороге стояли лишь лошадь и художник. Художнику было тяжело нести мольберт, этюдник и холсты, но он не хотел перекладывать все это на лошадь.
Художник терпеливо ждал, но лошадь не тронулась с места, и он повторил:
— Пошли, старина, поздно уже.
Лошадь побрела за художником. Теперь все кругом молчало, и лишь какой-то волкодав, изнывавший от тишины, хрипло залаял где-то вдали. Лай коснулся горы, отдался эхом. Эхо и волкодав облаяли друг друга. Потом все стихло.
Лошадь, понурив голову, медленно шла за художником.
Стояла осень. С гор спускались неоседланная лошадь и художник, нагруженный холстами, мольбертом и этюдником. У обоих в душе были табуны неоседланных лошадей и стаи волков, которые шли за ними.
Перевела К. Кафиева
Избушка в лесу
Три метких выстрела — и трое падают. Один валится как подкошенный, не сделав и шага. Второй пытаясь встать, истекает кровью. Третий оседает на землю, придерживая руками разорванный живот, потом вдруг вскакивает и мчится вперед.
В него стреляют, стреляют из автоматов. Он уже мертв, но продолжает бежать.
Снова очередь. Пули оставляют многоточия на обнаженной спине бегущего. Его взяли на прицел, стреляют, но он бежит, хотя давно уже, с первого выстрела, мертв…
— Тебя застрелили, ты убит! — размахивая деревянным автоматом, кричит один из победителей.
— Вовсе и не убит, — откуда-то, может быть из-за угла дома, говорит убитый. — Все пули пролетели мимо, кроме одной, да и та только ранила, а не убила.
Подходят остальные убитые, собираются в тени балкона и начинают спорить с победителями.
— Ну и что же, что вы стреляете из автоматов? Бывает даже, что расстреливают из пулеметов, и все равно никто не погибает.
«Случается…» — тихо говорит себе сидящий на балконе человек в коляске.
Ему кажется, что снова с адским воем вокруг рвутся мины, падают товарищи, потом вскакивают и бегут. Он не успевает за ними. Ложится в вырытую миной воронку. Не надо ни о чем думать. Но он не может не думать. Разве это справедливо — изо всех минометов бить в одного?
Гром орудий умолкает. Он не слышит тишины. В голове неотвязная мысль: удивительно, как можно из всех орудий стрелять только в одного человека, в солдата, отставшего от товарищей.
Т рах-тах-тах-тах!..
Теперь победители отступают, а побежденные атакуют. Во дворе кипит сражение.
— Замолчите, уходите отсюда! — кричит жилец с первого этажа.
Он пекарь. Работает ночью и только на рассвете возвращается домой.
— Слышите, я вам говорю, вон отсюда!
Дети не знают, что он пекарь. Не знают, что он ночью работает, а днем спит.
Дети стреляют в пекаря — трах-тах-тах! Они убивают его, а пекарь, несмотря на то что уже убит, кричит во все горло:
— Вон отсюда!
«Работников ночных смен нужно селить в верхних этажах», — вспоминает газетную строчку человек на балконе.
— …я вашу… — Жилец с первого этажа без рубашки выходит во двор.
— Трах-тах-тах!
Мальчишка стреляет в последний раз в упор. Пекарь не шатается, не падает. С грозным видом он направляется к детям. Воюющие стороны отступают и переносят сражение на улицу.
На мгновение во дворе наступает тишина. Потом появляются другие дети. Они собираются в тени дерева и принимаются достраивать домик из песка.
Дождь начинается внезапно. Детишки втыкают веточки вокруг домика. Некоторое время малыши крепятся, не обращают внимания на дождь, но потом не выдерживают и разбегаются по домам. Двор пустеет.
Он откатывает коляску назад и, расположившись в глубине балкона, думает о воюющих под дождем ребятах и о солдатах, воевавших много лет назад под таким же дождем.