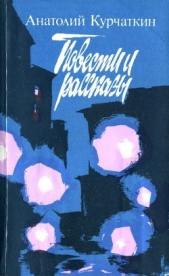Содержимое ящика<br />(Повести, рассказы)
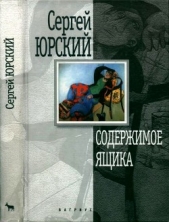
(Повести, рассказы)
Содержимое ящика
(Повести, рассказы) читать книгу онлайн
(Повести, рассказы) - читать бесплатно онлайн , автор Юрский Сергей Юрьевич
Эта книга для многих станет открытием. Оказывается, замечательный актер Сергей Юрский — мастер не только на театральных подмостках и киноэкране. Его проза — проза писателя-профессионала, глубокая и стилистически изощренная, вобравшая в себя и своеобразно осваиваемую литературную традицию (от Гоголя и Даниила Хармса до Юрия Трифонова), и оригинальные новации. Все в ней перемешано, как в жизни, все текуче и взаимосвязано: печаль и озорство, ирония и «серьез», новые времена и недавнее «безвременье». Неслучайно любимый герой Юрского — человек, которого буквально преследует ощущение, что где-то в другой стране и даже в другом времени живет некто, похожий на него, по сути его второе «я»…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я пас, мне чистого тоника, — Иванов накрыл рюмку пальцами.
— Я прошу… если вы друзья… если вы по-чистому сюда пришли… выпьем за здоровье Васьки Кроманова. Это был директор. Крутой мужик, да! Но мужик! Еще не раз его добрым словом помянем, и начальники наши, — Сева поклонился Глебу Витальевичу, — еще, надеюсь, опомнятся и сообразят, кого под гору пустили по пустому делу. Ну, выпили!
Выпили.
— Ты, Глеб, не обижайся, — Сева повернулся к Иванову, — но мне бояться нечего, я человек прямой — с Кромановым вы дров наломали. Зря на него навешали всех собак, зря. Зачем? Чтобы поставить этого слизняка Блинова? Василий Иванович, может быть, не отличал фриза от антифриза, но слушать, что ему говорят, умел и пробивать умел. И интуиция была чисто русская — настоящую вещь чуял. С масштабом человек. А этот что? Говорит, как ссыт. — Сева заговорил гнусавым голосом, довольно похоже подражая Блинову: — «А Бы задуБывались, БсеБолод БатБееБич, Бо что обойдется строителяБ каждая Баша криБая? ЗадуБыБались?» ЗадуБыБался! — закричал Сева своим голосом. — ЗадуБыБался! Живя в спрямленном мондриановском пространстве, мы спрямляем людям мозги, люди тупеют. Это не наш путь.
— Правильно! — крикнул Костя Шляпин, резко взмахнул рукой, сбил со стола рюмку с водкой, покраснел кумачовым цветом под устремленными на него взглядами, поднял с пола обломок рюмки, не глядя швырнул на стол. Обломок вдребезги разбил чашку с чаем.
Вера кинулась вытирать, шепча:
— Ничего, ничего…
Костя повернулся на каблуках, пошатнулся, ударился лицом о книжный шкаф, две книги тяжело ляпнулись на пол, и он, зацепив плечом косяк, вышел из комнаты.
— Извините, — сказала Лина и высвободилась из объятий Севы. — Экскузатэ, синьор, — наклонилась она к Паркетти. Она была профессиональная переводчица и дело свое знала.
Итальянец заговорил, подчеркивая отдельные слова и отбивая ритм движениями длинных пальцев и всей кистью — красивой, ухоженной, волосатой. Лина переводила синхронно.
— Синьор Паркетти интересуется: каким временем вы определяете слом русской национальной традиции в архитектуре? Синьор Паркетти не уверен, что окультуренное пространство, создаваемое архитектурой, должно обязательно развиваться с учетом национальных традиций. Синьор Паркетти полагает, что только природные условия, новейшие технические возможности и индивидуальное воображение могут определять строительное творчество. Однако он весьма интересуется вашей точкой зрения, — она повернула свое немыслимо очаровательное личико к Ярмаку, — и точкой зрения товарища Чернова. (Иванов внимательно посмотрел на Чернова.) Издательство синьора Паркетти готово опубликовать статью и проекты в виде, скажем, архитектурных фантазий.
— Вся беда России пришла от западнических реформ Петра, — учительским тоном вразрядку сказал Сева. — Пьетро Примо, царство ему небесное, оторвал образованную часть общества от нации. Получился феномен раздвоенной культуры, возникли те противоречия, которые мы не можем расхлебать до сих пор.
— Ленин дает этому классовое обоснование очень прямо и определенно. Так что мучиться не стоит, стоит Ленина почитать, — сказал Иванов.
— Брось, Глеб! — Сева фамильярно, но и заискивающе одновременно схватил его за плечо. — Не будем грешить цитатами. Сейчас не о политике речь. Речь о психическом здоровье нации. Любой самый образованный финн или эстонец чувствует себя частью народа. Потому что его дед был крестьянином. Сидел на земле. И у чехов так, и у грузин. А у нас? Дворян повывели, купцов не стало, и вся образованная прослойка, все наши таланты — либо евреи, либо бюрократы в двадцать пятом поколении. Уж в чем, в чем, а в антисемитизме меня обвинить никак нельзя. Так, теща моя дорогая? — Он протянул губы трубочкой в сторону Софьи Марковны и громко чмокнул. Софья Марковна глянула испуганно и презрительно. Изо рта и из носа шел дым. Курила. — Бесполезная трата сил! Евреи кладут свои талантливые головушки на алтарь нашей культуры, а зря. Нам пользы нет, а они удивляются, что за все их усилия мы не носим их на руках. Нам надо самим свою культуру строить. А им свою. Есть у них там Шолом-Алейхем — браво! Давай дальше, уважаю! Этим и занимайтесь, а Пушкиным мы сами займемся.
— И Достоевским? — минуя переводчицу, спросил итальянец. Чернов быстро взглянул на него. Почему Достоевский?
Похоже, этот сторонний человек попал в самую точку. В ту самую точку, о которую споткнулся Чернов, от которой его дорога и дорога Ярмака пошли в разные стороны. Слушая весь предшествующий разговор, Чернов испытывал вялую тоску. Сева свободно и темпераментно излагал его, Чернова, мысли. Мысли давние, молодые, оставленные Черновым как остывший гарнир на тарелке, каменеющий изнутри, покрывающийся неприятными пятнами холодного жирка.
Тогда, давно, Чернов во что бы то ни стало жаждал найти свою собственную, неповторимую точку стояния в профессии. Казалось, нашел. Его перестали считать спорщиком-оригиналом. Сева и за ним вся группа перевели его рассуждения в план реального принципа. Завертелось. Появились перспективы. И именно тут пришло разочарование. Чернов искал подтверждение своим мыслям в живописи, в литературе… и споткнулся на Достоевском. Прежде всего на «Дневниках писателя». Чернов вдруг увидел, что корень его идеи уходит туда — в грубо религиозное и страшно реакционное прославление русской избранности. Будущее собственного принципа показалось ему отталкивающим. Тогда-то и бросил он словцо, которое окончательно сделало его вторым лицом в проекте, а Всеволода Матвеевича определило как лидера, хранителя чистоты замысла. Они разрабатывали проект (чисто утопический, как он теперь понимал) совершенно отличного от западных домостроительного комбината. Из «исконно русских» блоков, которые они проектировали, комбинат должен был возводить исконно русские дома. Они грозились опрокинуть все мировые достижения. «Домострой», — сказал тогда Чернов про этот комбинат. Все эти многоэтажные терема и кельи с ванными и ватерклозетами стали казаться ему пошлостью и дилетантством. Какой тогда стоял крик! Их разнимали. А потом… он легко уступил заболевшему Севке остатки своих мыслей, сам уговорил его издать книгу под собственным именем и остался пустым, без новых идей, привычно связанным с разработкой совершенно чужого ему теперь проекта. А дальше… случилась история с Гольдманом, руководителем другой группы института…
Чернов выплыл из задумчивости.
— …Почти вертикально вверх! — кричал Сева. — Почти вертикально вверх шла русская культура — конец девятнадцатого — начало двадцатого. А дальше — Малевич, Родченко — в живописи. У нас — Татлин, Эль-Лисицкий, Яков Чернихов, конструктивисты — и всё! Разлом! То самое, что вы называете индивидуальным воображением, было просто-напросто проникновением чужой культуры. А что потом? Сталинские торты-небоскребы и хрущевские бараки-пятиэтажки?
Чернов скрипел зубами — скучно! Злобу вызывали эти собственные его старые, замусоленные слова, которые с такой свежестью, как новорожденных, выкладывал Всеволод Матвеевич.
— Мне казалось, что Россия двадцатых годов дала миру новые идеи, — переводила Лина. — А вот передвижники, к примеру, — это обработка и приспособление к местной психологии немецкого романтизма.
— Слушай, Гвидо… ты сам видел «Христа в пустыне» Крамского? Ты глаза его видел?..
Чернов снова стал глохнуть. Уходить от тягостных слов в тягостный туман воспоминаний.
Он видел лицо Евгения Михайловича Гольдмана, искаженное брезгливой улыбкой, его неухоженные, нездоровые волосы, перхоть на плечах. Стареющая рабочая лошадь. Смешно сказать, но всю ежедневную работу большого института делал он один. Да еще чертежник Бакулин и макетчик Коля. Группа Гольдмана состояла из молодых людей, взятых Кромановым по звонкам и записочкам. Никто бы их не взял — их валили Гольдману. Молодые люди более всего жаждали свободного времени. Презрительно улыбаясь, Гольдман подписывал их бесконечные просьбы об отпусках, отгулах, разрешил уходить раньше и приходить позже. Он оставался с чертежником Бакулиным и работал за всех. Никогда не жаловался. Единственная плата, которую он брал за этот каторжный труд, — право не скрывать своего презрения и к подчиненным, и к начальству.