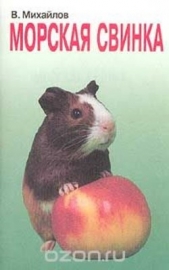Повести

Повести читать книгу онлайн
Янка Брыль — видный белорусский писатель, автор многих сборников повестей и рассказов, заслуженно пользующихся большой любовью советских читателей. Его произведении издавались на русском языке, на языках народов СССР и за рубежом.
В сборник «Повести» включены лучшие из произведений, написанных автором в разные годы: «Сиротский хлеб», «В семье», «В Заболотье светает», «На Быстрянке», «Смятение», «Нижние Байдуны».
Художественно ярко, с большой любовью к людям рассказывает автор о прошлом и настоящем белорусского народа, о самоотверженной борьбе коммунистов-подпольщиков Западной Белоруссии в буржуазной Польше, о немеркнущих подвигах белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении разрушенного хозяйства Белоруссии в послевоенные годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ну, а уж с отцом они, видно, наговорились всласть — и в дороге и там, в Неводах. «Свой своего признал», — сказала потом бабушка, слушая рассказ отца о Юрии Петровиче, с которым он до тех пор был мало знаком.
И вот для первого знакомства Процедура пообещал отцу достать маленький детекторный приемник. «Недорогой, подержанный, но еще годный. Минск, а через Минск и Москву поймает, ну, а больше тебе, браток, и не надо». И отец увлекся этой мыслью, потому что и он, как говорит бабушка, тоже «человек непоседливый и всегда у него где-нибудь свербит».
…Плохо, однако, рисовать при лампе: свет желтый какой-то и тени очень резкие, густые.
— А-а-а, — раздается вдруг тихий стон Ниночки.
Осторожно, босиком подхожу с лампой к кровати и наклоняюсь:
— Что? Чего тебе?
— Бабка, пить…
Приподнимаю головку и вливаю в запекшийся рот ложечку теплого чая. Это тоже мучение. Нина стонет и всхлипывает. И снова забытье, только частое дыхание и длинные ресницы закрытых глаз.
Я вспоминаю то, что сказал отцу Юрий Петрович, как бы не заметив, что и я в кухне: «Вы, Микола Степанович, мужчина, и с вами я не буду церемониться и скажу все: дела у девочки очень плохи, тем более что она не по годам развитая, впечатлительная, нервная. Видите сами — как закашляется, так и в плач, а это только ухудшает болезнь». Отец взглянул на меня и нахмурился: «Алесь, ты уже не дитя. Смотри, чтоб никто не знал, что говорит доктор».
И вот я храню нашу тайну.
Потихоньку ступая, выхожу из-за ширмы и… вздрагиваю от удивления: дядя, в одном белье, стоит, как привидение, у стола и, хмурясь, прикладывает палец ко рту:
— Тш-ш-ш! Я давно уже не сплю и видел, как ты рисовал. Покажи.
Мы склоняемся над моим рисунком.
— Гм!.. Молодец… неплохо. Видно, что пережито. Особенно хорошо выражение лица, изможденного честным трудом.
Он долго молчит, поглядывая то на бабушку, то на рисунок. Слышно только, как бормочет, шипит и потрескивает лампа.
— Я тебя, браток, понимаю, — наконец говорит он, — потому что и сам сейчас с этим ношусь. Нинина болезнь в эти дни разбудила во мне, укрепила, собрала воедино всю мою любовь к детям, ко всем, конечно, не только к нашим. Хочется мне выразить, передать… Ну, как бы это сказать? Хочется мне уловить это особое очарование душевных, доверчивых и таких вот милых, как у Нины с бабушкой, отношений старика и ребенка. Помнишь, как восторженно, чудесно пишет о детях Горький в своем «Кожемякине» или Андерсен, Конопницкая, Чехов, Толстой… С какой искренней радостью говорил когда-то о себе Шевченко: «Видно, не совсем дурен человек, если его дети любят!» А сколько сердца отдал малышам наш Якуб Колас! Так-то, брат… Но всего этого мало. Нам нужно еще и еще. Нам в особенности, потому что мы в этом отношении пока бедны. В наши хаты, на поля, на школьную парту нужно больше солнца, чтобы на родном языке узнавали дети обо всем самом лучшем, о счастливой, прекрасной жизни. Это, Алесь, великое задание для наших писателей и художников, — он усмехнулся, — даже, браток, и для таких, как мы с тобой. Ну, а покуда надо собираться в лес.
Дядя стал одеваться — пойти подкинуть сена коню.
— Павлюк просил разбудить, — говорит он погодя, нарушая молчание. — Часов нет, так и живем на ощупь.
По дрова мы ездим в пущу. Если прикинуть, так километров будет за тридцать.
3
Неумолчно шумит прялка, а на шум ее ложится старческий голос бабушки:
— Жили себе, были себе дед да баба…
Так начинается почти каждая сказка, и начало это всегда одинаково мило.
Бабушка сидит на топчане. Худые, потрескавшиеся пальцы наугад вьют тонкую льняную нить, пуская ее на быструю шпулю прялки. Нога в валенке нажимает на педаль, и спицы колеса слились в сплошной солнечный круг. К ногам бабушки шестью квадратиками окна легло бледное зимнее солнце. На солнце дремлет старый кот. Сладко нежится усатый, вспоминает, видно, те времена, когда он был котенком и хватал лапками головку быстрого веретена, потом стремглав удирал на печь и дергал там ушами, получив от бабки этой самой головкой по лбу.
Перед бабушкой на скамеечке сидит Нина за своей маленькой прялкой. Подражая бабушке и маме, она с серьезным видом слюнит пальчики и мнет в щепотке кудель, вытягивая из нее узловатую нитку, которая то и дело рвется. Нина после болезни все еще бледная, слабенькая.
Мать ушла к тете с куделью и взяла с собой Толика. Отец отправился в Невода к Процедуре, сегодня должен принести радио.
— …и было у них две дочки, — ведет рассказ бабушка, — дедова Марылька и бабина Наталка. Марылька — дедова дочка от первой женки, бабина падчерица, девчинка тихая, послушная, работящая. А бабина дочка, Наталка, — известно, баловень несусветный, убоище…
— Что это «убоище»? — спрашивает Нина, переставая прясть.
— Ну, бездельница, неудаха…
— Как Пилипова Зоська, а?
— А, а… Ты вот слушай!
Да она ведь и так слушает.
— А мачеха злится за это, — продолжает бабушка. — Вот раз как-то и говорит своему деду: «Вези ты ее в лес, что ли, свою Марыльку, либо в прорубь кинь куда хочешь, только бы с глаз долой!» Поплакал дед, поплакал и повез. Дурной дед, — служить ее лучше отдал бы!..
Дядя сидит на табуретке у лавки, лицом к стене, и чинит хомут. Я занят сапожной, так сказать, работой — подшиваю лапоть. Дядя молчит. Только время от времени — мне сбоку видно — по губам его пробегает улыбка.
Я гляжу на него, и мне невольно вспоминаются задушевные пушкинские слова:
Дядя так любит его, это стихотворение. Да и все мы — и дядя, и отец, и я — очень любим народные сказки Александра Сергеевича, написанные им по рассказам няни, такой же вот, как наша бабушка, деревенской старухи.
У дяди уже несколько тетрадок, в которые он записывает сказки и песни, пословицы, поговорки, свежие слова, свои наблюдения и мысли.
«Талант талантом, — говорит он, — а работать, брат, надо. Настоящие писатели, Алесь, работали упорно, много, и образцом прекрасного служило им творчество народа. У русских великий Пушкин начал, а Гоголь, Чехов, Толстой подняли литературу на небывалую высоту простоты, правдивости. Это были или дворяне или графы, а нам, сермяжникам, сам бог велел быть народными. Родионовну слушай, браток, но и сам будь Родионович».
А «Родионовна» ведет рассказ:
— И вот мачеха наложила ей торбу с собой, да на издевку: заместо сыра — кирпич, заместо круп — песку, заместо масла — глины. Нашел дед в лесу какую-то землянку, снял все с воза, попрощался с Марылькой, заплакал и поехал…
— Куда? — спрашивает Нина.
— Куда же еще? Домой. А Марылька села себе, попряла немного, потом давай ужин варить. Поглядела в торбу, а там — сыр большущий заместо кирпича, крупа заместо песку, масло заместо глины… Рада девчинка! Наварила, прибрала, вышла из землянки и давай звать (вот-то дуреха!): «Кто во лесу, кто во темном, приходи ко мне вечерять!..» — Бабушка за Марыльку зовет тоненько, девичьим голоском. — А Медведь из лесу, — старуха делает грубый медвежий голос: — «Я во лесу, я во темном, приду к тебе вечерять!»
Нина перестала прясть.
Веретено с оборванной ниткой так и застыло на колене, а в глазенках восторг…
— И вот идет, — сказывает бабушка, — скрип-скрип на липовой ноге… Костылем в дверь стук! «Девка-девица, русая косица, отвори!» Отворила Марылька, а он уселся за стол и давай ужинать. Выбежала тут из норки Мышка, взобралась на лавку, Марыльке на плечо и шепчет ей на ухо: «Девка-девица, русая косица, дай мне ложечку каши. Придет срок, и я тебе пригожусь». — «Что она говорит?» — спрашивает Медведь. «Каши просит». — «Дай ты ей ложкой по лбу». А Марылька набрала каши да бряк ложкой по лавке, а каша — под лавку.
— И Мышка съела кашу? — спрашивает Нина.
— Известно, съела. Ты слушай вот.