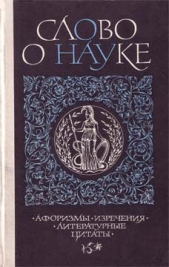Борьба за мир

Борьба за мир читать книгу онлайн
Первая книга трилогии о Великой Отечественной войне и послевоенном восстановлении писалась «по горячим следам», в 1943-47-м годах. Обширный многонаселенный роман изображает зверства фашистов, героический подвиг советского тыла, фронтовые будни. Действие его разворачивается на переднем крае, в партизанском лагере, на Урале, где директором военного завода назначен главный герой романа Николай Кораблёв, и на оккупированной территории, где осталась жена Кораблёва Татьяна Половцева…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вспомнив этот разговор, Татьяна сказала матери:
— Нет, нет, мама. Знают меня на селе.
— И все равно надо бежать, — уже совсем грубо отрезала мать.
— Куда? Ведь он еще больной, Виктор, — и Татьяна подняла глаза на мать, и глаза ее сияли. — Помнишь, как я перепутала Чиркуль на Чортокуль? Ах, мама, в Чортокуль бы этот. И как он, Коля, теперь? Ведь он мучается?
— А как же.
— Неужели я его никогда, никогда больше не увижу? Ни-ко-гда-а, мама?
— Ну, вот еще выдумала, — но глаза у матери наполнились тоской, и она сама прошептала. — Чортокуль, Чортокуль.
— Да. В Чортокуль бы, — мечтательно проговорила Татьяна, и вдруг глаза у нее вспыхнули такой ненавистью, что мать перепугалась, а дочь, кутаясь в шаль, сказала: — Я скоро приду, мама… Если этот пес спросит, скажи — ушла за лекарством, да не груби ему. Потерпим уж.
Она перебежала через плотину и свернула на опушку леса. Там, в густых соснах, на пне сидел Ермолай Агапов. Он поднялся ей навстречу, добрыми, большими глазами посмотрел на нее.
— Ну что, дочка?
Татьяна, сев рядом с ним на пень, чувствуя себя действительно дочкой, рассказала ему все, что ей говорил Ганс Кох, как он вел себя. Выслушав, Ермолай Агапов сказал:
— Чуешь? Этот еще только щенок, а какую пакость имеет. А те — псы настоящие: обдерут нас — это мало, да ведь еще в душу залезут и там напоганят. Хорошо ты это так-то с ним. Припугнула. Ну, а что слушала? Ты каждый день слушай.
Татьяна ежедневно, как только уходил из дому Ганс Кох, слушала радиопередачи. Она слушала и гитлеровскую хвастливую, но чаще ловила передачу из Москвы. И все, что она слышала, было страшно. Сегодня она узнала о том, что фронт прорван у Вязьмы… и немцы двинулись на Москву. А немцы кичливо кричали, что они вот-вот займут столицу, войдут в Кремль и на Красной площади будут праздновать победу… что москвичи из столицы бегут.
Передав все это, она пугливо посмотрела на Ермолая, уверенная, что на него ее рассказ произведет страшное впечатление. Ермолай Агапов поднял голову.
— Значит, убралась Москва-то. Это хорошо: детям и женщинам ненадобно быть под огнем. А то, что те болтают, — брехня. Красная гвардия, — он все еще называл Красную Армию по временам гражданской войны Красной гвардией, — Красная гвардия покажет им Москву — пятки засверкают.
Все это Ермолай Агапов произнес так, что у Татьяны разом пропал ужас, и она, еще внимательнее посмотрев на старика, произнесла:
— Какая у вас вера большая.
— А как же? Я ведь много лет прожил на земле, и всякое у меня было: жене не верил, детям не верил, друзьям не верил, а в народ всегда верил.
— А вот теперь? Ведь они боятся Ганса.
— Это не боязнь, дочка, — Ермолай Агапов смолк, еле слышно похрустывая мертвым снегом под ногой.
В этот миг из кустарника выскочил заяц. Как ошалелый, он кинулся сначала в одну, потом в другую сторону и со всего скока сел почти рядом с Ермолаем. Сел и выпученными, как горошины, глазами глянул в кустарник. Из кустарника показалась тонкая, длинная лисья голова. Заяц шарахнулся.
— Ух ты! — крикнул ему вдогонку Ермолай, и чуть погодя: — Видала? Заяц и то как жить хочет: от лисы-то к нам сиганул… А честный человек, который своим трудом хлеб добывает, ой, как жить хочет. Жулик, прохвост — тому жизнь ломаный грош. А мы сладко жили, с достоинством: мужик впервые стал гражданином. Понятно тебе это? Ну вот и копай тут. Полюбил мужик жизнь, а ему смерть несут. Нежданно, негаданно.
— А не будет так, как с Савелием Раковым?
Ермолай Агапов чуть подумал.
— Осудить человека — дело легкое. Понять — дело трудное… Давно я его знаю: одногодки мы и друзья были большие. А вот теперь. Ты приглядись к нему. Бац-бац человека по голове — легко. А может, у него линия. У меня своя линия, у него своя, у тебя своя — это капельки. А дождь тоже ведь капельками падает, а какие потоки бывают. — Дед помолчал и вдруг настойчиво потребовал: — Ты вот что, у пса тогда выпроси мне разрешение — на богомолье я хочу сходить. — Глаза у него загорелись искорками ребяческого озорства, и он тише добавил: — На богомолье… В Брянские леса, к партизанам… что ему, псу, не полагается знать.
— Ох, как мне это трудно — улыбаться, просить.
— Трудно? Еще бы. Но ведь хуже — прямо-то в лоб бить, когда еще рука коротка: по воздуху кулаком шарахнешь — и все. Потому хитрить надо до тех пор, пока рука до лба не дотянется. Дотянется — тут и шарахни.
Глава четвертая
Горы иногда рушатся сразу — в один час, в один миг…
В тот день, к вечеру, когда вся семья Замятиных вернулась домой, Елена Ильинишна — она всю дорогу молча плакала — сняла со стены календарь и сорвала двадцать первое июня.
— А двадцать второе не трогайте — это память о Санечке.
— И чего ты выдумала? Ну-ка я его сожгу, численник твой, — прорвался Иван Кузьмич, всю дорогу ласково утешавший жену.
Но Елена Ильинишна посмотрела на него так, как будто он делал что-то самое пакостное, и, собрав вещи Сани, словно провожая его куда-то, сложила их в уголке, рядом со своей кроватью.
Леля вмешалась, решив поддержать Ивана Кузьмича.
— Какие глупости, мамаша: все равно так моль съест.
Иван Кузьмич круто повернулся к Василию и, глядя на сноху, крикнул:
— Уйми!
На следующий день, поздно вечером, когда дети уже спали, призвали в армию и Василия. Мать снова заплакала. Она посадила сына рядом с собой, склонила его голову на колени и, разбирая волосы, тихо проговорила:
— Васенька! И взрослый ты — знаю, свои дети у тебя. Да ведь для моего сердца ты все равно маленький. Побереги себя, родной мой. Не трусости от тебя требую. Нет. Храбро побереги.
Иван Кузьмич хотел было молча расцеловаться с Василием, но, поцеловав, сказал:
— Ступай! И везде помни, какая власть инженера тебе дала. О ребятишках не думай — сберегу.
Сын посмотрел глубоко в глаза отцу, думая о чем-то очень далеком.
— Детей сбережешь — уверен. Но и то сбереги, что ждут термисты.
— Зря печалишься, — и отец легонько подтолкнул сына, как бы говоря: «Иди».
Леля завыла, повисла на шее мужа.
— Приезжай скорее: скучать буду.
А час спустя, когда в квартире все еще молчали, не зная, к чему и как приступить, раздался телефонный звонок и одновременно вошел Степан Яковлевич. По телефону звонил Едренкин, контролер из наркомата. Раза два встретившись с Иваном Кузьмичом в наркомате, он настойчиво лез к нему в дружбу, чего вовсе не хотел Иван Кузьмич. И вот теперь звонил.
— Разумный вы человек, — говорил Едренкин по телефону, — и я, как другу, хочу вам дать совет — запасайтесь, запасайтесь и еще раз запасайтесь.
— Чем? Не пойму что-то.
— Запасайтесь. Стыдно вам не запасаться, пока магазины полны товаров: у вас семья.
У Ивана Кузьмича трубка задрожала в руке, даже закачалась голова, и он остервенело зашипел, что бывало с ним очень редко.
— Ну, вы… это… того… не сколачивайте меня на дрянь великую. Что? Есть ли деньги? Есть. Но я и копейки не дам, — и, весь клокоча, сел за стол.
— Остынь, — посоветовал Степан Яковлевич.
— Да как же? Такое над страной нависло, а он — скупай. Сожрут! Такие крокодилы все государство сожрут.
— Не кипятись. И на хорошем теле паразит случается. — Степан Яковлевич чуть подождал, потрогал двумя пальцами кадык, вдавливая его. — Вот оно как разразилось. Ну, ты как, политик?
— Как? Давай чай пить. — Иван Кузьмич хотел было позвать Елену Ильинишну, но, посмотрев на дверь своей комнаты, покачал головой и сам включил электрический чайник, достал посуду, сахар.
— Матерям тяжело, — все поняв, проговорил Степан Яковлевич.
— А отцам?
— Отцы тоже, конечно, — и, чуть погодя, глядя на дверь комнаты Василия: — Мечты ведь рушатся. Запечатать придется дела мирные. И у многих ведь так. Я вот, к примеру, хотел сад рассадить — мечта хотя маленькая, однако дорогая мне. И у каждого ведь чего-нибудь да было, у одних большое, у других малое, но все одно — дорогое.