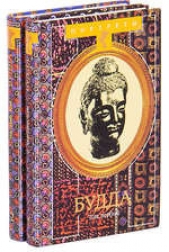На сопках Маньчжурии

На сопках Маньчжурии читать книгу онлайн
Роман рассказывает о русско-японской войне 1905 года, о том, что происходило более века назад, когда русские люди воевали в Маньчжурии под начальством генерала Куропаткина и других царских генералов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бежали днем, но заметили, поднялась стрельба, поезд остановился. Тайга подходила вплотную к железнодорожному полотну, охрана бросилась в тайгу, снова стреляли… Из десяти поймали одного!
Медленно двинулся поезд, нехотя набирая скорость, точно приглашая бежать остальных.
На соседней станции усилили конвой, а еще через станцию и вовсе сменили.
Обыск!
У Грифцова и Дубинского — распиленные кандалы. От страшного удара в голову Грифцов упал. Поднимаясь, он видел разъяренные глаза и кулак, готовившийся нанести второй удар. К счастью, второго удара не последовало. Дубинский был жестоко избит: особенную ненависть вызвали его очки, их сбили, надели, опять сбили. И так до тех пор, пока не превратили лицо в кровавый кусок мяса. Из кармана извлекли листок бумаги — начатое письмо; разорвали в клочья, огрызок карандаша выбросили за окно.
Снова заковали.
Вот что получилось из первой попытки бежать, которая казалась так легко осуществимой.
Камеры в тюрьме были такими, какими и представлял их себе Грифцов: предназначенными для уничтожения, а не для существования.
В камере он был четвертым. Встретили его настороженно. Бог знает, кто ты таков. Люди здесь живут давно, сжились… У каждого свои привычки…
Люди на каторге различались не столько по мировоззрению, сколько темпераментами. О разногласиях среди социал-демократов и о борьбе социал-демократов с другими партиями были осведомлены очень неопределенно. И не эти разногласия и расхождения были главной темой бесед и споров, а повседневный быт каторги. Это было время, когда политических не гоняли в рудники, и общее мнение было таково, что безделье, пожалуй, новый вид мучительства.
Обитателей политической каторги Грифцов разделил на три категории. К первой отнес арестантов, которые больше всего боялись протеста, волнений, скандалов. Они привыкли к каторге, сумели найти в ней маленькие утехи и мечтали: отбудем срок и начнем новую жизнь! Иные из них уже подали прошения на высочайшее имя…
Ренегатов в Петербурге любили, такие ходатайства всегда удовлетворяли: люди стали на колени, склонили головы, жить хотят. Такие надежны! Подавшим прошения разрешалось жить вне тюрьмы, они переходили в крестьянские избы за частоколом. Перегорели их души! Из плохонького, должно быть, материала были сработаны.
Ко второй категории Грифцов отнес когда-то непреклонных, гордых, жестоко в свое время боровшихся, но теперь хотевших лишь одного: дожить до выхода из тюрьмы, чтобы зажить личной жизнью. Никогда они не жили личной жизнью, а вот теперь захотели.
К третьей — принадлежали те, кто не хотел смиряться, кто и на каторге отстаивал свое и своих товарищей человеческое достоинство. Где бы ты ни был, делай свое честное, правдивое дело! А то до каторги ты — революционер, а на каторге отказываешься от всех своих принципов! Ни одного своего принципа не отдам извергу-царю и его псам!
Но ни один из этих путей не мог быть путем Грифцова: он пришел на каторгу не отбывать ее, а временным постояльцем.
Свою задачу он определил так: надо расслоить аморфную массу арестантов, найти подлинных революционеров, для кого ленинский путь будет путем жизни, и вместе с ними бежать.
В камере он пересказывал книгу Ленина «Что делать?» и сообщал события последнего времени.
Камера набивалась до отказа. Кругликов, Вавич, Коротков, Дубинский, Годун — с этими каторжанами изо дня в день сталкивался, разговаривал и спорил Грифцов. И сразу определилось, что Кругликов и Вавич хотя и социал-демократы, но не ленинского толка: осторожны, не верят в революционные силы пролетариата и сомневаются в возможности опереться на крестьянство…
Коротков сказал:
— Теория ваша сложна и многословна. Для того чтобы победить, революция должна пользоваться самой простой теорией и строиться на самых простых человеческих страстях. А у вас все сложно: нужно думать, соображать! На такой основе революции в России не сделать. Доцентов и профессоров вы еще можете вдохновить, а вот студенты за вами уж не пойдут. Со скуки подохнут.
Коротков — высокий, тощий, с лицом, которое даже среди желтых лиц каторжников выделялось своей желтизной.
Но Годун и Дубинский восприняли ленинские указания так, как воспринимал их сам Грифцов, — как путь в жизнь и к победе.
Лука Дорофеевич Годун! Тонкие черты лица, темная, ровно обстриженная бородка: Годун и на каторге следил за собой.
— Кем же вы были, Лука Дорофеевич?
Годун усмехнулся:
— Не поверите… фельдфебелем!
Грифцов действительно удивился.
Умные глаза Годуна весело прищурились:
— Вот послухайте мою историю… Наш батальон, Антон Егорович, послали против крестьян. Усмирять. Пришли в деревню. Деревня — как всякая православная деревня: избы старые, крыши соломенные, крестьяне с голодухи помещичий амбар ворошат. Командир роты командует стрелять по бунтовщикам, а они еле на ногах стоят, эти бунтовщики. Солдаты опустили винтовки к ноге. Капитан, бледный как смерть, поскакал за подполковником. Солдаты не послухали и подполковника. Офицеры туда-сюда — и скрылись. Тогда я вижу, получается нарушение полной дисциплины, и принял командование ротой. Солдаты послухали меня. Повел я их из деревни в чистое поле, к лесочку, подальше от других рот. Стали мы там лагерем. Что делать? Положение, уставом не предусмотренное. А был я, Антон Егорович, не то что в батальоне, в полку первым фельдфебелем. Сразу, как пришел на службу, понял всю солдатскую науку. И как сапоги надеть, чтоб они сидели, как положено сидеть сапогам на ногах русского солдата, и как ремнем подпоясаться, чтобы глазу было приятно оттого, что на тебе рубаха и подпоясан ты ремнем. А уж про строй и говорить нечего: как будто в строю родился… Когда на пасху от лица всех солдат нужно было христосоваться с генералом, в наряд всегда назначали меня. Был, можно сказать, первый солдат в полку. Стояли мы возле лесочка и вечер, и ночь, и утро. А к обеду прискакал командир полка. Не кричал, не ругался, а тихонечко скомандовал: «Винтовки сложить… кругом ааа…арш!» Меня он допрашивал первый: «Ах, Годун, Годун, — все приговаривал, — как ты подвел меня!..»
Давно Грифцов не чувствовал такой радости, какую почувствовал, слушая Годуна: рота отказалась повиноваться офицерам, в командование вступил солдат! Это исключительно, Лука Дорофеевич, это исключительно!
Он увидел необозримо далеко: армию, которая переходит на сторону восставшего народа! Без этого не победить. Вот важнейшее дело: найти доступ в армию, организовать там подпольные ячейки! Знает ли про случай с Годуном Владимир Ильич?
А Лука Дорофеевич улыбался улыбкой, от которой его красивое лицо делалось еще красивее. Он был грамотен в самом простом смысле: умел читать и писать. Знаний не имел никаких. Брошюр не читал, связи с подпольными организациями не имел. Но была в нем та ясность души и ума, которая позволяла ему видеть правду. Он чувствовал ее безошибочно.
Заниматься с ним было наслаждением. С каждым днем Грифцов все более убеждался, до чего умен и способен русский человек.
О побеге разговор зашел сам собой. У Годуна было несколько планов, и все это были планы военные: захватить оружие, вооруженными уйти в тайгу. Без оружия в тайге не проживешь: зверь милостыню не подаст.
Раньше Годун думал добыть себе после побега паспорт на чужое имя и поселиться в Уссурийском крае. Там много ссыльных, кто там будет разыскивать Годуна? Но теперь, после знакомства с Грифцовым, он хотел уже не привольной жизни в Уссурийском крае, а революционного дела.
В группу побега вошло десять человек.
Местный край хорошо знал тюремный врач Быков. Охотник, он исходил и изъездил его по всем направлениям. Но можно ли расспрашивать доктора о путях и дорогах в тайге, даже если придать любопытству краеведческий смысл?
Доктор Быков оказался гуманным человеком. О крае он рассказывал подробно, а однажды даже принес карту.
Были у него жена и дети. Дети подросли, но здесь им негде было учиться. Доктор по этому поводу сетовал и подавал прошения о переводе, но они оставались без удовлетворения.