Поездка в горы и обратно
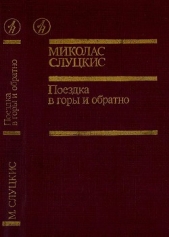
Поездка в горы и обратно читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А эта баба, право, лучше, тоньше, чем я о ней полагала. Извинюсь… Воображаю, как удивится.
— Вы серьезно? — Игерман оперся ладонями о стол, словно собирался опрокинуть его вместе с креслом. Склонился над ней, чтобы не отвела холодных, пристально за ним наблюдающих глаз.
— Фокусы свои показывайте где угодно, Игерман, тут они не принесут вам успеха. Сегодня мы едем к шефам. Рабочая аудитория, но требовательная. Советую прийти в себя и порепетировать.
— Вы смеете? После того, как смертельно… меня обидели? Перемазали все лицо… как бы это сказать… в навозе? Смеете давать советы? — Он весь дрожал, пальцы ломали столешницу, казалось, оторвет вместе с грудами бумаги, декоративной чернильницей, телефонами и прихлопнет Лионгину, если посмеет возражать. — Я подумал… вот женщина, такая женщина… — Он не заикался, как в юности, но речь его ломалась, словно плохо режущееся стекло. — Подумал… такая женщина… целый свет объедешь… не найдешь… Мне померещилось… она… та самая… много лет назад привидевшаяся в горах… и исчезнувшая… Но ведь не может совсем исчезнуть… добро… и процветать… одно зло… а? Вот она… сказал я себе… злым духом околдованная, дешевыми блестками ослепленная… позови по имени, и она… вздрогнет… очнется… откликнется… Лон-гина… Эй, Лонгина!.. Лон-гина!
— Я не глухая. — Она откинулась, сколько позволяла спинка стула, чтобы не обжигало жаркое, отдающее вчерашней выпивкой дыхание. — Ваша алкогольная эйфория не производит впечатления, уймитесь! Кажется, и я знала… знала юношу, чем-то напоминающего вас. Но разве был он похож на комедианта, который превращает в цирк не только сцену, но и жизнь? Одной рукой дарите корзину роз, другую тянете за авансом.
— Мои! Не краденые… Своим страданием заработал… разве не заработал? Пускай, как вы говорите… цирком. Я не завидую… дрессированным эстрадным обезьянам или… лижущим микрофоны мошенникам… Я… живой человек… каждый миг хочу почувствовать… трепет жизни… Огонь есть огонь… вода есть вода… Слово тоже… Когда я говорю:
то я готов умереть за этот миг… Десять раз умереть!.. Насмехаетесь? Всегда насмехаетесь?
И теперь… будете смеяться? Это тоже я… Я? Ответьте же!..
Лионгине некуда было отступать, разве что отодвинуться вместе с креслом. Она чувствовала себя так, будто ее привязали над костром, который лижет ее то медленным, то резвым огнем. Крепко зажмурившись, чтобы не выжгло глаза, повторяла про себя: не забудь, ты — Губертаничене, не Лон-гина, а Губертавичене! Появился Игерман, и она раздвоилась — кто-то отыскал и вытащил из темного захламленного подвала ее былой образ. Сдирая паутину забвения, она уже без доверия относилась к трезвому уму Губертавичене, тем более — к возродившимся чувствам Лионгины. Игерман не был больше героем, он размахивал не боевым знаменем, скорее — туристским флажком. Однако не переставал громыхать могучий поток горной реки, усыпанный дешевыми блестками.
— И все-таки ваши монологи уместнее были бы на сцене. — Ей бесконечно трудно было произнести эти несколько слов. Мысленно она благодарила подоспевшую на помощь Губертавичене.
— К черту… сцену! Я читал знаете где? — Слились воедино апломб и острая боль. — Вчера вас удивили мои руки… — Он оторвал свои клешни от столешницы, сжал их в кулаки и швырнул на стол, как колоду, — рубите, уродуйте и вы! — Знаете, откуда пятна, шрамы?.. След подлости… жестокой подлости… после одного концерта в таежном поселке… отправился я на охоту, не один… с собутыльниками… Лакали, лакали мой спирт и предложили… мол, сходим в тайгу… Набрел я на звериный след и пустился по нему… они сговорились и ушли назад — лакать спирт… Спохватился, что нет их… кричу… палю из двухстволки… Вдруг заблудились, ждут от меня помощи? Где там… Подшутить, видите ли, надумали… так потом объясняли… а я… четырнадцать суток один в тайге… без патронов… без пищи… Поверите? Обувь разлезлась… Сунул ноги в варежки… От медведя-шатуна спасался… от волков… Но самое страшное — не голод, не холод… Одиночество! Подыхай, с ума сходи, никто… не хватится… Такое огромное человечество… мужчины, женщины… белые, желтые, черные… Все рождены матерями… И никто, никто!.. Вот от чего мои руки… и ноги… Разуться?
— Лучше не надо. — Губертавичене загородилась ладонями.
— Вертолет спас… заметили летчики стаю волков… сбились звери возле падали… это был я… полуживой… Подлецов должны были судить… Простил — не мстительный… жен их, детей жалко стало… Разве законное наказание компенсирует обиду? До глубины души меня… обидели…
— Неужели люди могли такое сделать? — усомнилась Губертавичене, вообще-то редко удивляющаяся, особенно редко — человеческой подлости.
— Чего глаза таращите?.. Сами… швырнули мне в лицо деньги… за сердечность… Думаете, не обидели?.. До глубины души… как те… те!..
— Сравнили! — рассердилась Губертавичене, в то время как Лионгина свернулась в клубочек, не слыша ничего, кроме биения собственного сердца. — И все же приберегите монологи для сцены. Сегодня поедем к замечательным слушателям. Им и расскажете про свои таежные приключения. И не пытайтесь фыркать — в клубе наших шефов выступают самые известные мастера.
— Приключения? Я рассказываю приключения? Никуда я с вами… не поеду, никуда!.. Слышите… злая женщина… с виду похожая… на женщину… которую… я всю жизнь ищу! Вы недостойны… ее… Оставайтесь в своей… красивой клетке… А я буду читать… где и кому… пожелаю. Сам найду себе аудиторию… Пушкина… Лермонтова любят все… все народы… Слушают люди… и благодарят… простые люди, не снобы… Они не станут гнушаться мною… моими руками… Они вам отвратительны… а не цветы… не так ли? Эх вы… Лон-гина! Прощайте, больше… мы… не увидимся!..
— Улетите, без сомнения, налетающей тарелочке? — уколола Губертавичене.
Ральф Игерман бросил на стол деньги, которые еще сжимал в кулаке, и выбежал из кабинета, не оглядываясь.
— Вот и все. — Лионгина Губертавичене устало прикрыла глаза. Костер больше не полыхал, языки пламени опали, превратились в пепел. Все засыпал серый пепел. — Ах да, у меня будет шубка…
Не мог сообразить, где он, — ни сад, ни лес. Между старыми яблонями и высохшими сливами, между поросшими сорняками торфяными кучами, вероятно давно привезенными сюда, но не разбросанными, торчали елочки. Поодаль сутулился дом, не похожий ни на деревенский, ни на городской, это мог быть старинный пятистенок, если бы не широко прорубленное по фасаду, сплошное, без переплета окно. Алоизас не сомневался, что бывал здесь, может быть, даже жил, но когда? — не припоминалось. Самое странное — на крыше качалась березка, вторая такая же кудрявилась, вцепившись в прогнившую крышу другой постройки неясного предназначения — то ли сарая, то ли хлева. Вокруг ни живой души, не у кого узнать, куда это он забрел и, главное, зачем. В памяти всплывала лишь туманная мысль: ему что-то было нужно, самым серьезным образом нужно, до такой степени нужно, что, бросив все, ушел он в поля. Обливаясь потом, карабкался через заброшенные карьеры, обходил угрюмо поблескивающие озерца и болотные трясины, пока не добрался до усадьбы. Да, усадьба, он обрадовался, поняв это, но стершаяся пластинка памяти, с которой не слетал ни один знакомый мотив, не давала покоя. Явись вдруг хозяин и спроси, чего ему тут надо, — не ответил бы. Алоизас озирался по сторонам и в то же время давил башмаком комок земли, который никак не желал разваливаться, а ведь в него вмерз голубой мячик — виден был его круглый бок. Мячик этот был ему знаком, быть может, когда-то бросал и ловил его, и если бы теперь взял в руки, то, глядишь, все и прояснилось бы, но каким образом прикатился он сюда, почему вмерз в землю? И тут до Алоизаса донеслось шумное фырканье, пластинка в голове завертелась быстрее, серая пелена приоткрылась. Он вспомнил, зачем ушел из города. Ему непременно нужны были лошади! С ног сбился в поисках лошадей, а тут, где-то совсем рядом, фыркает лошадь, поскрипывают постромки. Алоизас медленно пошел в ту сторону, откуда доносились эти звуки и лошадиный запах. Вскоре он очутился в огороде, порыжевшем от увядшей ботвы невыкопанной картошки и полыни с лебедой, облепившей забор. А вот и лошадь, да не одна — пара, запряженная в дроги. Но, боже, какие жалкие клячи: бока запали, в гривах — репьи, старческие глаза, которые едва ли видят дорожную колею, гноятся. На шкуре у обеих вздувшиеся язвы, сами одры дрожат от напряжения, хотя ничего не везут. Не лучше и дроги — не подвода, две, уложенные над колесными осями, измаранные навозом доски, — а рядом, в одной руке держа поводья, другой почесывая лошаденкам острые, как лемеха, зады, топчется человек. Одноглазый, лицо — сплошной кровоподтек, в грязных лохмотьях. Впадина выбитого глаза, кажется, что-то видит и подмигивает Алоизасу, словно знакомому: подойди, мол.


























