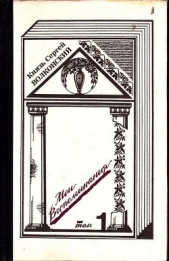Том 7. Эхо

Том 7. Эхо читать книгу онлайн
От воспитанника до мичмана, «Капитан, улыбнитесь», От лейтенанта до старшего лейтенанта, Наши университеты, Вопят огнями тишину, Непутевая тетка непутевого племянника, Еще про объединение, Счастливая старость, Чуть-чуть о Вере Федоровне Пановой, «НЕ МИР ТЕСЕН, А СЛОЙ ТОНОК?» (Из писем Л. Л. Кербера), Судьба семьи, О Викторе Платоновиче Некрасове, Из последних писем Л. Л. Кербера, ПАРИЖ БЕЗ ПРАЗДНИКА (В. П. Некрасов), Смерть в чужой квартире, Письма, полученные после публикации «Парижа без праздника», «У КАЖДОГО БЫЛ СВОЙ СПАСИТЕЛЬ» (О «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина), Из переписки В. Конецкого с А. Адамовичем.
ПАМЯТИ ВИКТОРА КУРОЧКИНАКТО Ж У ВАС СМОТРИТ НА ОБЛАКА? (А. И. Солженицын)
КАПИТАНЫКапитан Георгий Кононович, Всего две встречи, Капитан Георгий Яффе, Он поэмы этой капитан (С. А. Колбасьев), Капитан Юрий Клименченко, Россия океанская.
ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯОт Верочки Адуевой, «Я буду в море лунной полосой…», Перестройка, или Пожар в бардаке во время наводнения, Жизнь поэта — сплошной подвиг.
ОПЯТЬ НАЗВАНИЕ НЕ ПРИДУМЫВАЕТСЯ (Ю. П. Казаков).
Начну с конца, с последнего письма, Нам с Казаковым под тридцать, Перевалило за тридцать, Как литературно ссорятся литераторы, Прошло одиннадцать лет, Из дневниковых записей на теплоходе «Северолес», Эпилог.
ОГУРЕЦ НАВЫРЕЗ (А. Т. Аверченко)
ЗДЕСЬ ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ НАЗВАНИЙ (В. Б. Шкловский)
Из писем О. Б. Эйхенбаум и Е. Даль
БАРЫШНЯ И РАЗГИЛЬДЯЙ (Б. Ахмадулина и Г. Халатов)
Встречи разных лет
Разгильдяй Грант
ПРИЯТНО ВСПОМНИТЬ (Р. Орлова, Л. Копелев, Д. Стейнбек, Э. Колдуэлл)
На полчаса без хвоста (У. Сароян)
Архисчастливый писатель (А. Хейли)
ПРИШЛА ПОРА ТАКИХ ЗАМЕТОК
ДВЕ ОСЕНИ
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот о чем я думал, вылезая из трюма, проверив крепление груза и осмотрев стопора трюмных крышек в центре Баренцева моря, а за тысячи километров от меня на берегу Адриатического моря сидел Иво Андрич и писал слово в слово то же!
Всю жизнь не могу привыкнуть к таким совпадениям…
Хорошо такое для существования человечества или ужасно?
Раскованная проза. Это когда автор просто-напросто рассказывает, куда и как вела его судьба в жизни. Но судьба-то всегда ведет именно туда, где он должен был быть и куда он, послушный зову судьбы и приказу совести, идет.
Блок: «В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, которое произвело его, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем».
Каждый крупный писатель находит ритм интуитивно. Он не спорит, например, о вопросе беспорочного или порочного зачатия Девы Марии (а именно таким спором представляется дискуссия в «ЛГ» о бытовизме в мифизме или реализме в романтизме). Даже такого выдержанного человека, как Чингиз Айтматов, дискуссия довела до белого каления и вынудила довольно строго объяснить Льву Анненскому азбучную истину: писатель, если он настоящий, использует в своей книге все и вся — от мифа до районной газеты, — чтобы идти ритмически единственным путем.
Пусть твердят о необходимости жанровой чистоты: «рассказ», «повесть», «очерк»… Господи, мы, конечно, отдельно едим за обедом первое, второе и третье. Но потом все это дело перемешивается. И право, как-то глуповато выглядит то, что мы не пьем кисель перед супом, если нам такое преступление свершить отчаянно хочется! Детишки-то пьют! И с пользой!
Не люблю театр. Так получилось. Потом подвел теорию. Мол, жизнь и есть театр. А если в театральный спектакль режиссер вводит сцену из другого спектакля или в кинофильм вмонтирует эпизод из другого фильма под тем соусом, что эти чужие кусочки видят действующие лица, то все это просто дурной вкус. Плохо, когда в театре видишь еще один театр, а в кино еще другое кино.
Но все время вертится в голове сравнение художественного наблюдения окружающих явлений, жизни, с наблюдением физика над физическим состоянием материи. Физик четко осознает, что тот прибор, которым он наблюдает, или сам экспериментатор своей собственной персоной обязательно и неизбежно оказывают искажающее влияние на измеряемое, наблюдаемое, изучаемое, ибо все и вся на этом свете взаимодействует. Потому результат наблюдений всегда сопровождается указанием условий, в которых они производились, состоянием приборов и состоянием самого наблюдателя в этот момент. Мы же привыкли рассматривать шедевр искусства в отрыве от мира, который окружал художника. То есть экскурсоводы-то нам объясняют кое-что, но сам художник традиционно считает это ненужным и даже нескромным. И в литературе так. Мы читаем роман, увлечены его героями, но что нам до того мира, который был в момент, когда писалась та или другая страница романа, внутри и вокруг автора. Мне кажется, это неверно. В литературном произведении должно существовать и описание его созидания, что на ученом языке называется «включенное наблюдение», «включенный наблюдатель»…
Вводить самого себя в книгу, конечно, дело щекотливое, и лишних хлопот получаешь полон рот, но если, черт возьми, иначе не можешь?
А потом, смотрите еще. Вот Людмила Гурченко написала повесть — отлично написала! И себя написала. И насколько повесть шире и глубже потому, что мы знаем автора — десятки лет знаем, любим, любуемся, гордимся даже тем, что есть у нас такая актриса, женщина. Вышла бы повесть под псевдонимом — ну, похвалили бы ее критики: «Молодой писатель показал отличное знание своего детства, широко использовал словарный запас улицы, мат родимого дома и т. д.». Кстати, начинающему писателю, если он не Людмила Гурченко, и поматериться не дали бы ни за что.
Когда писатель, вводя самого себя в книгу, исповедуясь, искажает картину жизни своим присутствием, то он как бы пишет на жизнь донос. Но это не страшно Жизни, плевать она на доносы хотела. Это в первую очередь самому автору гроб. А вот с критикой дело сложнее. Ибо когда критики «исповедуются», и при этом своим присутствием искажают литературу и писателя, то тут тоже донос выходит, но уже не на всемогущую и все отряхивающую с себя Жизнь, а на одинокого человека — писатели часто одинокие люди. И они-то своей шкурой оплачивают исповедальные импровизации критика.
На вечно витающий в воздухе упрек некоторым пишущим в эскизности, фрагментарности, этюдности отвечает матерый и блистательный романист Макс Фриш: «По меньшей мере спорно, объяснима ли существующая тяга к эскизности личными недостатками писателя и его таланта. Вопрос об умении, профессионализме, владении различными точными формами и жанрами литературы рано или поздно превращается для всякого писателя, который жертвует исследованию этого вопроса всю жизнь, в вопрос о праве (говорить). Это значит: профессиональная забота исчезает за нравственной… Позиция большинства современников, мне кажется, выражается вопросом к действительности. И форма вопроса, пока нет полного ответа, может быть только временной, а тогда, пожалуй, единственный облик, который вопрос с достоинством может носить, — это фрагмент».
Совсем недавно прочел:
«Чисто формальное понимание „логичности“ и иррационализм находятся между собой в отношении необходимой дополнительности потому, что ни там, ни тут подлинная логика мышления не улавливается и не выражается». Вот к чему мы подкатили в одна тысяча девятьсот семьдесят девятом году от рождества Христова!
В предсмертном интервью Сартр был беспощаден в своем глубочайшем пессимизме: «Ничем это никогда не кончится, нет цели, есть только маленькие задачки, во имя которых сражаются; мир кажется безобразным, дурным и безнадежным».
Я видел Сартра. Он был небольшого роста. С крупными, сильными, тяжелыми кистями рук. Его руки были похожи на руки крестьян Милле. И вот к концу жизни, перепробовав все, он уже не верил ни во что. Я перепробовал очень мало, но последнее время ловлю себя на подобных мыслях. Каковы нынче глобальные цели человечества: «Мир во всем мире», «Накормить всех голодающих», «Спасти природу (экология)». Но мы видим, что ни одна из этих целей не обладает действенной силой для сплочения человечества. Человечество расползается, повинуясь националистическим и государственным страстям. Удержать частицы материи в шнуре горячей плазмы оказывается возможнее, нежели сплотить народы в «единую семью». Почему? А мне кажется, цели-то эти утилитарные, в основе их лежит одно — выживание, существование любой ценой. И это правильно — выжить надо, иначе и говорить больше будет некому. Но, как ни странно, для спасения человечеству следует воодушевиться, может быть, такой вполне дурацкой идеей: построить трап к Небесам, то есть повторить идею Вавилонской башни. Все будут говорить на одном языке, всех будет объединять одна цель. Такая великая, что Бог испугается, хотя нынче нервы у Бога стали куда крепче. Он терпит даже «Аполло» — «Союз» в небесах. Но и этот «Аполло» — «Союз», как мы видим, никак не объединяет человечество. Быть может, потому Бог и не пугается?..
Толстой длительными периодами не мог художественно творить по самой обыкновенной причине — стабильная, жуткая тоска его мучила. Ее кумысом не зальешь. Как, впрочем, и водкой. И вот тогда гонорар за «Воскресение» отдается духоборам на переезд в Канаду…
А с какой невнятной и потому особо действенной силой при чтении художественного Толстого возникает желание творчества, писательства! Нигилизм по отношению к писаниям друг друга между современными писателями основан еще и на том, что мы не возбуждаем друг в друге желания творчества. Зависть, возможно, бывает к чужой удаче, но того животворного, что возбуждает в тебе гений…
«Цель художника в том, чтобы заставить любить жизнь» (Толстой — Боборыкину). «Писание для меня — соперничество с Богом». Во как: Бога не боялся! Что же бедному Синоду оставалось делать?
Да еще философом Федоровым интересовался, ибо считал, что только огромная цель порождает истинное сплочение. Не выгодное сотрудничество, а совместное творчество жизни и счастья.