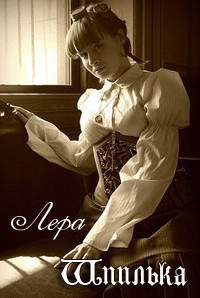Ясные дали

Ясные дали читать книгу онлайн
Повесть в трех частях Александра Андреева "Ясные дали" посвящена судьбе молодых рабочих. Автор показывает становление личности, формирование нового советского человека. А.Андреев смотрит на своих персонажей сквозь призму времени, делясь с читателем тем романтическим настроем и верой в новое, светлое будущее, столь характерными для 50-х гг. XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А Нину они теперь не выловят, — произнес я убежденно. — Она теперь будет умней.
Щукин подтолкнул меня локтем.
— Что ты говоришь? Какую Нину?
— Сокол, — ответил я и замолчал.
Рассвет застал нас в сырой, торфянистой низине. Низина была до краев налита матовым, волокнисто-вязким светом, и мы брели, словно в молоке. Молоко быстро начало оседать, воздух делался все более прозрачным: к ногам упали голубовато-мерцающие тени. У идущего впереди меня Щукина уже проступили из тумана голова и плечи. Ноздри приятно защекотал донесшийся сюда дымок: чувствовалось, что недалеко человеческое жилье. Мы остановились и прислушались. Совсем рядом загремели колеса то ли по булыжнику, то ли по бревнам, и тут же отчетливо, с разлету вторглась нам в уши грубая немецкая речь. Мы, как по команде, сели. Сквозь тусклую муть различили три подводы. Они медленно проехали, и опять стало глухо. Туман поредел, остались кое-где на дне низины бледные, зыбкие лужицы.
Неподалеку от нас приютилась на краю лощины сиротливая деревенька, голая, без единого деревца. К ней по низине пролегала гать. Дни стояли жаркие, без дождей, дорога высохла, и настил из бревен и хвороста вздыбился по краям, отделившись от рыхлой почвы. Стало быстро светлеть, зыбкие лужицы исчезли, и нас могли заметить. Деваться было некуда.
Я ругал себя за то, что не пошел лесом, где безопасней и удобней, все хотел сократить дорогу. Теперь вот очутились, как на сковородке.
Пригнувшись, я подбежал к гати и кое-как втиснул себя в щель под настил, за продольные бревна, лег на самую середину. Здесь, должно быть, все лето, не просыхая, держалась грязь, не жидкая, но клейкая, засасывающая и холодная.
— Эх, товарищ лейтенант, куда загнал нас подлюга-фашист, а! — сокрушенно, со всхлипом вздохнул Чертыханов, брезгливо морщась, погружая руки в кислую, пахнущую торфом грязь, но тут же успокоил себя: — А все потому, что жизнь свою ценю превыше всего на свете, хочу еще кое-что посмотреть на нашей грешной земле: ни черта я, кроме своей Калуги, и не видал. Ради жизни можно и в грязи боровом поваляться. А может, дай бог, я и поквитаюсь с фашистом за такой вот позор. Эх, позор!.. — крякнул он, устраиваясь удобней.
Мы лежали вдоль гати попарно — я со Щукиным, Чертыханов с Ежиком, — голова в голову. Я чувствовал, как набухал сыростью бархат знамени, липкий холодок коснулся тела. Политрук долго не мог угомониться, беспокойно ворочался, покашливая. Лежать предстояло до вечера.
Прокофий считал нас не приспособленными к таким житейским неудобствам и всеми силами старался облегчить наше положение, помочь.
— Товарищ политрук, подложите под щеку мой мешок.
— Ничего, — отозвался Щукин и скромно улыбнулся, как бы говоря: «Попал в грязь — не чирикай». Этот жаловаться, стонать и охать не станет, даже вида не подаст. — Ты лучше за Васей присмотри, трудненько ему с материнской перинки на такую постель ложиться. Да, Вася?
— Я небалованый. — Зубы Васи непроизвольно отстукали дробь. — Я год в общежитии жил, там для белоручек ходу нет. Вот солнышко взойдет — и еще жарко станет.
— Ты под ним подкопай-ка ямку поглубже, Прокофий, — сказал я. — А то пойдет подвода, а еще хуже машина — прищемит…
— А что, если танк? — спросил Вася встревоженно, и светлые глаза его округлились. Он, очевидно, только сейчас осознал, что настил для того и положен, чтобы по нему ездить.
Чертыханов весело рассмеялся:
— Тогда, Вася, мы будем, как тесто, раскатанное для лапши.
— Танкам здесь делать нечего, — успокоил мальчика Щукин. — Боев тут нет…
Прокофий подкопал под Васей ложбинку.
— Вот тебе, Ежик, и могилка. И знать никто не будет.
— Что за глупые шутки! — прикрикнул на него Щукин.
Чертыханов тут же признался:
— Виноват, товарищ политрук, больше не буду. — И, лукаво подмигнув, шепнул мальчику по секрету, хотя тут слышно было даже дыхание. — Видишь, как тебя оберегают: будто наследника турецкого султана. — Почему именно «турецкого султана», Прокофий, пожалуй, и сам бы не ответил. — Ты поверни-ка оружие сюда, а то нечаянно продырявишь голову лейтенанту или политруку. — Вася послушно переложил пистолет, но руку от него не отнял.
Чертыханов умолк, склонив голову на ладони, и тут же послышалось тяжелое и громкое, со всхрапом, дыхание, похожее на вздохи усталой лошади: он уснул мгновенно. Было тихо. По дороге не проезжали и не проходили. Взошло солнце: в щель между бревнами настила упала теплая, золотистая полоска, осветила шею и небритый подбородок Щукина.
От яркости у меня сладко смежились глаза, навязчиво, непрошенно возникали и исчезали картины, полные солнца, красок, звона и смеха, всплывали и пропадали лица: виделась Волга, белый пароход, салон, пучки света, дробящиеся в хрустале, игра Кочевого Саньки на скрипке и прекрасное, улыбающееся лицо Серафимы Владимировны Казанцевой… Где они сейчас, что делают? Потом явственно предстала перед глазами комната в общежитии, наша драка с Санькой из-за Лены. Как это теперь далеко и как комично — влюбленные петухи! Вспомнилось, как Тонька по утрам, чтобы разбудить меня, щекотала мне пятки или соломинкой водила по носу и смеялась оттого, как я морщился и поджимал колени. Или вот: комсомольское собрание и вопросы Лены Стоговой: «Пойду ли я на костер во имя нашей идеи, во имя Родины?» Тогда этот вопрос был скорее теоретический и потому слишком громкий; теперь только я смогу ответить на него: «Пойду…» Завращалось вдруг «чертово колесо» среди россыпи огней Парка культуры и отдыха имени Горького; в зыбко качающейся кабине — я и Нина, глаза ее то озаряются светом, когда мы взлетаем, то мерцают, окутываясь темнотой… Отчетливо увиделись классы актерской школы, зверинец, который мы изображали, и лукавый голосок Ирины Тайнинской: «Я хочу погулять чернобурой лисицей. Ты, Дима, будешь серым волком…» Картина «Партизанские ночи», роль Васи Грачика, которую я играл, гражданская война, скачки, атаки — все это было напоказ, картинно и неправда… А война-то, вот она какая! Лежим, по горло засосанные грязью, дышим тлетворными малярийными испарениями, ждем темноты, чтобы выползти из-под настила и брести, хоронясь, по следам вражеской армии, пробуждая в себе самые дикие, беспощадные инстинкты.
Прошлая жизнь воспринималась теперь как праздник: с песнями, с сиянием влюбленных глаз, со звоном бокалов и солнечными брызгами вина, с катками и читальными залами библиотек. Пришло время защищать этот праздник…
Стало теплее. Все возникавшие в памяти картины и лица постепенно отодвинулись, потускнели, сливаясь в одно неразборчивое пятно: я задремал. Сквозь тяжелую дремоту я услышал, как глухо забила деревянная сторожевая колотушка. Удары усиливались с каждой минутой, стучали над самой головой. Щукин толкнул меня в бок:
— Митя, подводы идут…
Все проснулись. Лошадиные копыта рождали сухой, бочковый гром: тук, тук, тук! Настил постепенно опускался. Вот бревна коснулись плеча, спины, мягко вдавливая нас в грунт. Заскакали окованные железом колеса по ребристой дороге. Щукин болезненно поморщился: ему придавило локоть. Вася сжался в комочек, на миг высунулся его вздернутый носик с поросячьими смешными дырочками и опять приник. Лопатки больнее ощутили груз второй подводы. Протопали сапоги солдат. Гром стал отдаляться, постепенно стихая.
— Пронесло, — отметил Прокофий и опять уснул, изредка всхрапывая.
Сон, наваливался неотвязно и мучительно — не сон, а какая-то обессиливающая одурь. Грохот проезжающих подвод и шаги людей то нарастали, то опять стихали, и было такое ощущение, что стучали по ребрам то сильно, до боли, то слабо. К концу дня проползла, пересчитывая бревна, легковая машина. Настил, заскрипев и прогнувшись, плотно накрыл нас, вдавливая в грязь, и я вскрикнул: в груди как будто что-то треснуло. После такого пресса нажимы подвод казались уже нежными прикосновениями. Спать больше не хотелось, руки и ноги затекли и тупо ныли. Я взглянул на Васю Ежика.