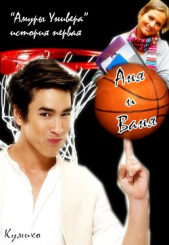Арифметика любви

Арифметика любви читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно. Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А в самом деле, эти «следующие» теперь (тогда было) лет 14–16, может быть, они — другие? Между ними уж потому скорее найдутся «имеющие интерес к интересному», что им «новы все впечатления бытия». Что и как они из этих впечатлений выбирают?
У меня случайно уже было несколько юных приятелей — гимназистов и гимназисток. Они, своими встречами у меня, и положили начало петербургским «зеленым воскресеньям». Как «зеленые» — недолго они просуществовали: жизнь уничтожает искусственные выдумки, между прочим — и наш условный раздел на «поколения». События тех времен подчеркнули эту условность. Особенная же безрассудность была делить молодежь на «средних» и «младших», — как она сама себя делила тогда (и, увы, до сих пор, кажется, продолжает, даже здесь, в эмиграции, где так все беспросветно перепуталось, что не диво встретить 20-летнего старика и другого, зрелого, кому внутренне не больше 14-ти лет!). А тогдашняя русская молодость, и «средние», и «младшие», одинаково оказалась «обреченной». Одинаково из нее спаслись те, кто спаслись, — целиком «поколения», к счастью, не вымирают.
Но о петербургских «воскресеньях», о том, как они начались и длились, о первом и дальнейших участниках, у меня уже была подробная статья. (Кстати сказать: написанная в то далекое время, — в первые годы эмиграции, — когда русские писатели еще писали, по навыку в России, о чем хотели и как хотели. С тех пор много воды утекло. Физическая невозможность так писать постепенно лишила нас и внутренней к тому способности: она атрофирована. Писать о чем хотим и как хотим — мы уже больше не умеем.)
Насчет Петербурга надо, однако, прибавить, что первая группа, «зеленая», — вскоре глупо взбунтовавшаяся против новых воскресников, безобидных, но среднемолодых (они, мол, не «мы») — по отношению к «свободным» встречам кое-что понимала. Может быть, они притворялись, и я обманываюсь; но видимость была такая, что именно они, эти юные, сразу, как свое, восприняли твердое мое неверие в «учительство и ученичество». В самом деле, и не одним благочестивым людям следовало бы задуматься над словами: «Не называйте учителем никого…». Не говорю об учителе арифметики, или чего-нибудь неизмеримо более сложного, но того же порядка. Учительство же другого порядка, если не вред и жалость, то пустота. В этом порядке никто не может ничего дать другому по своей воле, из своего, разве насилием (хотя бы бессознательным) сильного над слабым. Все учительства можно свести, в конце концов, к Толстому и его ученикам. Разнообразие только кажущееся, суть одна. Нельзя давать другому; но можно встретиться на чем-нибудь одном (даже, хотя бы, просто на интересе); и тогда каждый встречник сам будет брать у другого то, чего ему, — для этого общего одного, — не хватает, — и обратно.
Нет ли, впрочем, прирожденных «учеников»? Всякий, думаю, видал людей, откровенно распахнутых, как будто ждущих проходящего учителя и его даров (большинство женщин), или других, тщательно, напротив, закрытых: они боятся, до паники, «влияния». По существу оба типа равны, так как оба сами ниоткуда ничего не берут.
Свобода от учительства и ученичества вещь очень опасная, если она не по силам или недостаточно понятна; впрочем, всякая свобода опасна, и даже так, что ничего ее опаснее нет на свете. Сказать с уверенностью, что случайные юнцы, в случайном уголке воскресений, действительно понимали эту свободу, — я, конечно, не могу. Но выдуманный ими, наивный лозунг для «встреч» — не так уж плох: Свобода, Равенство, Вежливость. Он скромен, не хотели «братства»: какое еще у нас братство! А «вежливость» — это как раз посильная — пусть мечта! — самоограничения в свободе, т. е. требование самой свободы, которая не любит превращаться в произвол и распущенность. Они, группа юных, поясняли лозунг своими словами: пусть будет свобода, и равенство, а вежливость — это чтоб не было, как везде, у других…. Ну всякий там футуризм, что ли…
Группа эта, благодаря глупому бунту против расширенных воскресений, в скорости распалась. Но хотя новые участники из «средней» молодежи и расширили воскресенья, и некому было повторять забытый «лозунг», — «учредители», пожалуй, даром взбунтовались. По существу, и эти новые воскресенья скрытой основы своей не потеряли. Литературные и всякие «среднемолодые» входили одиночками; каждый являлся, когда того хотел; его не звали и не прогоняли (кроме одного случая, но не касающегося «воскресений»), потому что каждый, приходя, был (или делался), приблизительно, как все, — держал себя вежливо, по мере сил свободно и, если свое превосходство над кем-нибудь чувствовал, его не выражал.
Свобода заниматься тем, что кого интересует, тоже была полная. Ведь по «интересам», как уже сказано, много кое-чего можно узнать о человеке. Другое дело, каковы они были у тогдашних людей, молодых, т. е. еще «становящихся», и какой у меня был над ними суд (поневоле поверхностный, конечно). Но бескорыстно интересны они мне были все-таки все, или почти все, в этих «свободных встречах».
Такие рассуждения и воспоминания пришли мне в голову, когда, на днях, один известный писатель, из «среднестарших», спросил:
— В чем, собственно, идея ваших здешних, парижских, воскресений? Я понимаю собрания у N: молодые поэты рассуждают со старшим собратом-учителем о стихосложении, о метрах… Но у вас…
Ответить на это не трудно: и в здешних, как в петербургских, «идеи» нет вовсе, никакой. Только свобода… не от идей, конечно, а для всяких, буде они явятся. Кроме того, это не «мои» воскресенья: столько же мне принадлежат, сколько другим участникам, и от них зависят.
В самом деле: парижские воскресенья, несмотря на всю их с петербургскими несхожесть (еще бы, после общего-то вверх дном переворота), в корнях, в глубине — те же. Другое место, другая трагедия, другие люди; но — так же создались эти воскресенья сами собой, без чьей-либо заботы; так же трагична трагедия и «других» людей, а сами другие так же безмерно разнообразны. И даже, в громадном большинстве, они тоже русская «молодость»; не по внешнему, петербургскому, подбору «цифрового возраста», а по гораздо более важному, внутреннему: если с цифрами он часто и совпадает, то, в трагическое время наше, не всегда. Наконец, и здесь то же открытое поле для всяких интересов… к интересному.
Петербургские воскресенья не имели истории: их краткое дленье прервалось со всеобщим русским прерывом. Здешние, поскольку они другие, историю свою имеют. Как уже имеет ее, — и сложнейшую, — эмиграция, в первые годы которой, — медовые годы! — они и зародились.
Слово «мед» к эмиграции, к людям без родины, плохо прилагается; а все же, по сравнению с горечью годов последних, эти первые хочется назвать «медовыми». Они невозвратимы, но это хорошо, всего было бы ужаснее, если б годы шли, ничего не меняя, если б дороги и тропинки истории оказались круговыми. А горечь… Однажды, рассказывает Библия, «из сладкого вышло сильное»; почем знать, может быть, в эмиграции сильное выйдет из горького?
Впрочем, вернемся к воскресеньям. Мне хотелось еще только сказать, что нельзя ограничиться сегодняшним днем, рассказывая о здешних: надо считаться с их фазами, сменами, с их историей. Преистори-ческие, — петербургские, — могут служить в виде предисловия. К ним я уже не возвращусь, если попробую, в другой раз, поговорить о современности, о воскресеньях парижских, об «интересах» участников, о них самих во всем их человеческом разнообразии, о том, что отсюда выходило или не выходило…
А что дальше выйдет — мы не знаем и не заботимся. Вряд ли ничего. Из свободы всегда что-нибудь выходит.
ПОЛИТИКА И ПОЭЗИЯ
(Доклад, прочитанный на вечере стихов «Перекрестка»)
Что самое трудное? Невозможно сказать. Слишком их много, трудных вещей. Но вот нечто, если и не самое трудное, то очень. Это — отделить какое-нибудь слово от привычного понятия. Взглянуть на него свежими глазами.
Привычка такое дело, что мы, зачастую, не даем себе и труда остановиться, подумать: да что, в сущности, мы под таким-то словом разумеем? Например, «поэзия». Все знают, что такое поэзия. Знают? Нет, просто тянется за словом цепь ассоциаций, с незапамятных времен к нему приклеенная. Или — политика. Сейчас же другой ряд ассоциаций, других, и так же плотно приклеенных. Если попросить у обыкновенного, среднеинтеллигентного человека более точных определений, вряд ли что выйдет. Из политики получится или нечто смутное (да и правда: где она начинается, где кончается?), или безнадежно узкое. С поэзией — лучше, ведь смутное тут даже обязательно. А в самом общем — так: политика и политики — это на земле, поэзия и поэты — на воздухе, над землей, хоть на вершок, а лучше на аршин, а еще лучше — на сажень и более. Чем выше, тем поэтичнее.