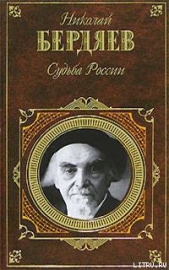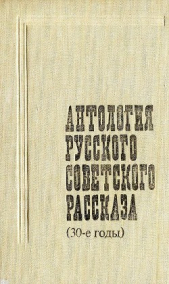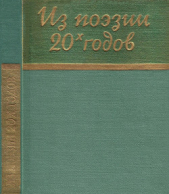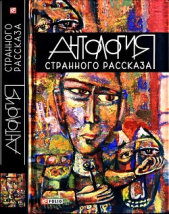Антология русского советского рассказа (40-е годы)
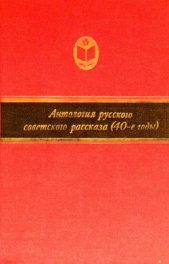
Антология русского советского рассказа (40-е годы) читать книгу онлайн
В сборник вошли лучшие рассказы 40-х годов наиболее известных советских писателей: М. Шолохова, А. Толстого, К. Федина, А. Платонова, Б. Полевого и других.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ох, — воскликнула Анеля с тоской, повернувшись к старухе всем телом, — кабы верила в тот свет, в ад пойти я согласилась бы! Хуже не будет.
— А отродье свое — кому? На меня не рассчитывай. Меня свое горе озлобило. Чую сердцем, знаю — убили Стасика, сына моего. И сердце у меня чисто камень сделалось. Не жалко мне ни тебя, ни сынишку твоего.
Как затравленный зверь взглянула на нее Анеля. В глазах были тоска и бессильная ярость. Опустившись на кровать, она спросила злобно и громко:
— А чего же медлишь? Выдай теперь меня. Красная Армия не пришла.
— И не придет. О Косте и то третий месяц слуху нет. Никому теперь не верю я. И ты мне записку ту, может, сама написала. Где мне разобрать, его ли почерк иль поддельный. Может, Стась тогда уже убитый был. Гниют где-нибудь на притоптанном, на кровавом поле его косточки, а ты его именем ко мне в дом вползла, как змея. Змея и есть!
Анеля тяжело вздохнула, сказала слабым и покорным голосом:
— Думайте как знаете. Не в силах я больше просить не только за себя, даже за ребенка моего. Вот вы о своем сыне знаете, что он в Красной Армии. Кабы мне о муже это услышать, хоть что-нибудь услышать, господи! В партизанах ли, в армии или на месте схватили. В Минске он ведь ответственный пост занимал.
Старуха подняла голову и нахмурилась:
— В Минске-е? А ты же говорила мне, что из…
Анеля вскочила с кровати, с размаху упала перед ней на колени.
— Пожалейте меня! Третий год я вас мамой… мамашей зову! Пожалейте, как мать… Я ведь о вас заботилась, как о родной матери. Пожалейте меня один только день… Вот сегодня пожалейте, как свою родную дочь, не мучайте меня допросами. Только сегодня! Особенная у меня сегодня тоска!
Она заплакала по-детски жалобно, припав головой на колени к старухе. Антониевна строго, неласково положила ей на голову свою руку. Голос ее звучал глухо:
— Никому на свете не нужны мы. Немцы и те, видать, только затем взяли нас, чтобы своему же прохвосту во власть отдать.
Она отстранила с колен голову Анели. Та поднялась с полу, спросила с укором:
— Какой же он — свой?
— Тебе лучше знать. Кому — лиходей, тебе — добродей. Кабы не он, думаешь, в гестапе обошлись бы с тобой так, валя-валя? С кем еще из нашей деревни были они этакие вежливые?
Анеля ахнула, заговорила не сразу и совсем не своим, тоненьким, жалобным голосом:
— Что вы? Вы что… подозреваете? Били меня, и на железной дороге я тяжелую работу работала.
— Били! Это для них не битье, коль ты — живая, ни в костях, ни в теле не поврежденная. И над женской твоей честью, — ты сказывала, коль не соврала, — они не надругались. Ну и о чем же разговор. Для себя Казимир тебя выпросил. Пойдешь, что ль? Пора.
Анеля всплеснула руками:
— Не пойду! О господи, родная моя мама, где она? Неужели и она забыла обо мне? Посмотрела бы, как мне тяжело около чужой, нежалостливой матери, сердце бы кровью облилось у нее! Куда вы меня гоните? На что толкаете? Как не стыдно вам! Ведь я тоже мать! Не могу я больше! О-о-о! Жить больше не могу.
Она страстно зарыдала, упав ничком на пол около колыбели. Ребенок проснулся от громкого ее рыданья, испуганно заплакал. Анеля опомнилась. Глотая слезы, она расправила на нем одеяльце, погладила его, нежно приговаривая:
— Нет, мое солнышко, сыночек мой, мама здесь, мама с тобой. Спи, спи, голубеночек! С тобой я, никому не отдам. А-а-а!
— Вот… Понимаешь, как за дитя сердце болит. А над ним поешь светло, ласково, скорбь свою затаиваешь. И я над своим пела так! А где он теперь, где?
Внезапным озлобленьем скрывая острую жалость к Анеле, старуха крикнула:
— А с пащенком твоим возиться не буду. С чужим дитем возись да еще Казимиру твоему угождай на старости лет.
— За пащенка этого, — отозвалась Анеля сдержанно, — я на вас, как батрачка, работала. Да какая батрачка! Как мужик-батрак, всю полевую работу ворочала. И для вашего хозяйства, и на немцев не только за себя, а и за вас какую работу ворочала! Внутри все у меня надорванное от этой работы. А я ни разу не пожаловалась. Из уважения к вам сдерживалась. Думала про вас: «Вот женщина — за себя не побоялась, меня с ребенком укрыла, защитила. Вот оно что значит — русская женщина». Так я думала…
— И чего ты мне все в нос шибаешь — русская, русская? Ты-то русская, что ли? Имя-то у тебя откудова неправославное — Анеля? А?
— Ах, вон вы как заговорили! У нас, в Советской России, все мы одно, люди одной страны. И кровь, и порода, и мысли, и вера наша! Я только на ваши слова указала вам, что и национальности мы с вами одной. Знаете, что я вам скажу? Не верю я, чтобы вашей душе, суровой, но честной, была подлость свойственна. Не выдадите вы меня, нет! Я вам сейчас себя в руки полностью отдам. Нет у меня иного выхода. Это последняя моя ночь. Ночь моей гибели. Не может быть, чтоб и умереть мне пришлось на руках предательницы. Не верю я в это. Я вам все про себя расскажу. И не боюсь! Я чувствую, что вы мне поможете умереть без отвращенья к людям.
Антониевна слушала Анелю, стоя прямо перед ней. Она сама не заметила, как поднялась с табурета. Она разглядывала Анелю, будто видела ее в первый раз. И голосом, полным удивления, она спросила ее:
— Что это ты как заговорила? Такой речи я от тебя никогда не слыхивала. Языком ворочала, вроде как мы, деревенские, а теперь…
— И я сама думала, что, кроме грубых и насущных слов, забыла я все, чему училась, что знала, какая речь была обычной для меня. Не в том дело. Сейчас некогда! Не сегодня ночью, так завтра меня смерть смахнет. Всякая речь моя замолкнет. Любовницей Казимира я не стану. Живой не дамся! Да разве это может быть иначе? Вы сами понимаете. Но я не о Казимире. Если б даже наш честный советский человек, товарищ прекрасный, красавец, умница… Все равно, никому я не могу принадлежать как женщина. Да разве я могу после Сергея, после нашей с ним любви?.. Ах, не знаете вы… Сами рассказывали, что своего мужа не любили. Не знаете вы, какая бывает любовь к мужу, к нему, единственному.
— А может, и знаю… Только не к мужу, — глухо проронила старуха.
— Это непонятно мне. То есть умом понимаю, а сердце не соглашается. Мне посчастливилось. Я сразу встретила человека, которого уж никем заменить нельзя. Он один на всем свете муж для меня.
Она всплеснула руками:
— С такой любовью в душе, как я могу спасать свою жизнь в чьих бы то ни было объятиях!.. А… о Казимире что же говорить? Подумать даже мерзко.
— Что же ты делать будешь?
— Если его не удастся убить, себя убью. Больше выхода нет. Не надо об этом сейчас. Некогда! Он с часа на час может прийти, а мне еще много надо сказать вам. Не надо вспоминать, что вы мне говорили.
Дрожащими руками она взяла правую руку Антониевны и прижала к своим губам. Потом, не выпуская ее из своих рук, попросила:
— Сохраните моего ребенка! Сохраните его жизнь. Может быть, может быть… Передадите его отцу… Невредимого, живого, нашего сына. Ведь может же это быть! Может! Хоть после смерти моей может! Спаси, выходи, вырасти моего сына!..
Анеля снова припала в поцелуе к руке старухи. Губы у старухи задрожали. В сильном волнении она прижала голову Анели к своему плечу, сказала медленно и очень твердо:
— Возьми светец, иди за мной.
Анеля подняла светец, Антониевна схватила ее за другую руку и повела в горницу.
— Поставь на стол свет, садись к столу.
Старуха отошла к изголовью своей кровати, где стоял старинный, расписанный разными цветами, уже потускневшими от времени, деревянный сундук, сняла с пояса большой ключ, открыла сундук и недолго искала в нем. Из складок слежавшегося русского сарафана достала Антониевна выцветшую фотографию. С карточкой в руке подошла к Анеле. Лицо у старухи было тоскливое, но торжественное. И глаза на нем вдруг снова ожили, засияли горячим светом. Анеля невольно поднялась ей навстречу.
— Вот, — чуть дрогнувшим голосом сказала Антониевна. — Это Стасик, младенцем снятый на карточку. Ему, ребенку, моему ребенку, хоть и не слышит он меня теперь, даю я обещание, сильную клятву даю, материнскую. Не знать мне еды без горечи, не выпить мне воды без утоления, сколько бы жажда ни томила меня, и в самой смерти не узнать мне покоя, коли я не выхожу сына твоего, как мной роженного, моей лаской утешенного. Крепче этого обещанья нет у меня. Верь мне. Как звать-то тебя?