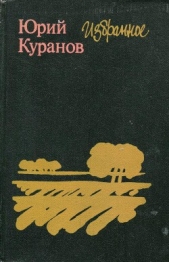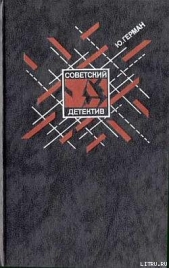Наши знакомые

Наши знакомые читать книгу онлайн
Роман «Наши знакомые», создан в 1932–1958 годах. Роман запечатлел переломную эпоху в истории нашей страны — годы первых пятилеток. Героиня романа Антонина Старосельская мечтает о счастье. И настоящее счастье приходит тогда, когда ей удается найти свое дело в жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не шали! — велел он ей.
— Веди меня! — приказала она.
В номере она слышала, как он положил на стол персики, как покатилась дыня и как, чертыхнувшись, он поймал ее на лету.
— Не ругайтесь! — сказала она. — И электричество незачем зажигать.
Дверь на балкон была открыта, и были видны яркие, тревожащие душу огни кораблей, не то уходящих, не то приходящих. С моря немного дуло, и что-то в комнате шевелилось, шелестело, словно живое. Антонина все стояла посредине номера, закрыв глаза, в солоноватом, несильном морском ветре. Ах, как это было не похоже, дико не похоже на всю ее прежнюю жизнь.
— Дико! — сказала она.
— Чего это? — смешно переспросил Альтус.
— Ничего! — ответила она. — Ничего! Я не знаю, кто ты мне — будущий муж, жених, просто встречный с перепиской для красоты, я не знаю, правда ли это — что вот ты и вот я, я не знаю, чем все это кончится, но только, пожалуйста, пожалуйста, Алеша, побудь со мной вместе хоть несколько дней…
— Насчет дней — не удастся! — напряженно улыбаясь, ответил он. — Во всяком случае, нынче…
Всю ночь они не сомкнули глаз, так ей по крайней мере казалось. Впрочем, бывало, что она и проваливалась в какое-то небытие на несколько минут. Проваливался и он. Тогда она говорила, жадно глядя в его запавшие темные глазницы:
— Не спи! Днем же уйдешь! Не смей, не смей спать! Не смей!
А море внизу, за открытыми окнами и широкой балконной дверью, шевелилось и ворчало — огромное, опасное, живое. И ветер посвистывал в наступающем сером рассвете, и запахом водорослей несло, и тревожно гудел пароход на рейде.
— Боже мой, — шептала Антонина, — боже мой, боже мой…
— Колдуньям и ведьмам бога поминать не положено, — тихо сказал он. — Не разрешается.
— А я — колдунья?
— И ведьма притом.
«Я — колдунья! — счастливо удивилась она. — Это я-то!»
Погодя спросила:
— Вы меня не бросите?
— А вы меня?
Им почему-то доставляло удовольствие говорить то на «вы», то на «ты».
— Я-то тебя никогда не брошу, но ты меня непременно. И пройдитесь, товарищ Альтус, принесите мне персик. Только, пожалуйста, не самый зеленый!
Так, с надкушенным персиком, она вдруг заснула уже утром, в блеске солнца, с тенями на щеках, с запутавшимися волосами, замученная, истерзанная. Он укрыл ее одеялом до плеч, голый, подрагивая от ветра, написал записку, по-мальчишески расписался: «Ваш старый муж», побрился в ванной и ушел. А она спала долго, почти до полудня, в жарком, раскаленном номере, на самом солнцепеке…
Проснувшись, несколько секунд не понимала — где она, потом потянулась всем телом до головокружения, до боли, прочитала записку от «старого мужа», медленно, лениво улыбаясь, стала мыться, одеваться, пудрить отдельно нос, отдельно лоб, красить губы. Но все это вдруг ей не понравилось, не понравилась и она сама себе — голубые тени под глазами, устало-лукавый взгляд, обнаженные, слабые, нисколько еще не загорелые руки.
«Бросит он меня! — уныло подумала Антонина. И тут же твердо решила: — Никогда!»
Днем принесли телеграмму от Жени, что Федя здоров, бодр, что вообще все совершенно благополучно и что на комбинате все идет как должно. Это последнее обстоятельство даже немного обидело Антонину.
Альтус вернулся поздно, и опять было заметно, что он бежал, и опять обедали внизу, но уже пили холодное белое вино, легкое и пьяное, и не катались на лодке, а сидели у моря в шезлонгах и негромко разговаривали, а то вдруг и молчали подолгу, глядя вдаль на огни гавани. Море в этот вечер угрожающе шумело, и были вывешены сигналы, воспрещающие купаться. Круто, сильно пахло водорослями, йодом, солью, и ветер дул мягкий, глухой, порывистый.
— Значит, отпуска у вас и не будет совсем? — спросила Антонина неожиданно. — Не пустят?
— Почему же не пустят? Пустят! — раскуривая трубку, ответил Альтус. — Но, понимаешь ли, какая штука…
— Какая? — почти сердито сказала она.
— Ты только не раздражайся, — ласково попросил он. — Видишь ли… У нас, у чекистов, есть изустная легенда о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. О его письме в Политбюро ЦК.
— Ну?
— В мае, что ли, двадцать третьего года на Политбюро был поставлен вопрос об отпуске товарища Дзержинского. Он ответил заявлением, где написал, понимаешь ли, что считает отпуск вредным для дела и для себя лично по пяти пунктам. И по линии ОГПУ, и по линии НКПС, и по линии актуальных тогда «ножниц», и по линии некой «Рабочей группы»…
— Так что же?
— А то же, — терпеливо продолжал Альтус, — то же, что в конце письма Дзержинский написал о том, что уходить в отпуск ему сейчас и психологически было бы очень трудно, потому что отпуск не дал бы ему того, что требуется от отпуска. Это — Дзержинский! Какое же имеем право мы, рядовые работники, поступать иначе, чем он, жить легче, чем жил он? Молчишь?
— Молчу! — уныло сказала Антонина. — Но ведь, с другой стороны, это был двадцать третий год…
— Двадцать третий! — согласился Альтус. — А сейчас, ты предполагаешь, все вокруг стали зайчиками и только восторгаются на Советский Союз?
Она не ответила. На рейде прокричала сирена парохода, ей ответила другая. Альтус попыхивал трубкой в ветреной тьме, сосредоточенно думал.
— О чем ты? — тихо спросила Антонина и положила свою руку в его раскрытую ладонь. — Ты не сердишься на меня?
Ночью шел проливной свистящий дождь, сверкала молния почему-то без грома, по коридору гостиницы ходили моряки и разговаривали о шторме.
— Баллов десять будет, — сказал за стеной женский голос, — никогда ты мне не веришь, Гриша.
— Пятнадцать!
— Пятнадцать не бывает, не дури мне голову, я моряцкая женка!
Альтус вдруг тенорком запел:
И, испуганно взглянув на Антонину, извинился:
— Прости! Это один мой старый дружок всегда напевает… Вдруг, понимаешь ли, дернула меня нелегкая…
Часа в три ночи им обоим захотелось есть, они встали, зажгли свет, но еды никакой не было, кроме персиков и черствого хлеба. Альтус накинул на плечи Антонины свою шинель и растворил дверь на балкон. Тотчас же все в комнате запрыгало и затрещало, упала и разбилась чашка, Антонина закричала: «Закрой, Леша, с ума сойти надо!» — и замахала руками. Он не закрыл, и они долго смотрели с балкона на страшную воду, на жалобно скрипящие фонари, на колоссальные валы, бегущие бесконечной вереницей и разбивающиеся в пену о гранит.
Он стоял рядом с ней, плечо к плечу, опершись локтями о перила, и она видела его профиль — прямой нос, упрямые губы, светлые волосы — и думала о нем совсем иначе, чем прежде, не узнавала его и любила, и еще не знала, да и можно ли было его узнать до конца? Он все время менялся, так казалось ей, — сейчас он был иным, чем несколько минут назад, а каким он будет завтра, она и не представляла себе. Он не был ни нежен, ни разговорчив, ни молчалив — он был прост, это она знала наверняка. Всегда он был самим собою. Когда ему не хотелось разговаривать, он молчал. Если ему хотелось свистеть, он свистел. Если он думал о чем-нибудь, он не отвлекался — при ней он жил так же сам по себе, как если бы ее не было вовсе. И ни разу он не заводил об этом разговоров. Вероятно, он был тверд, храбр, спокоен, выдержан — его вежливые, совершенно прозрачные порою глаза говорили о хорошей жизненной школе. Но иногда что-то очаровательно-детское, проказливое, любопытное и отчаянно-веселое пробегало по его лицу — таким она любила его больше всего, он становился ближе ей, понятнее, как бы раскрывался весь. Но это всегда быстро проходило. Через несколько дней она научилась вызывать это состояние в нем сама. Она все больше, все сильнее, все стремительнее любила его. И с ним что-то делалось — порою он недоуменно на нее поглядывал, порою вдруг точно раздражался, иногда звонил с работы по телефону в гостиницу и ничего не мог ей сказать, спрашивал: «Ну как? Ну что? Жарко?» — и вешал трубку.