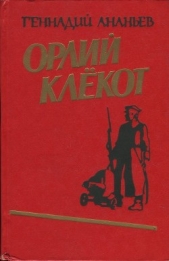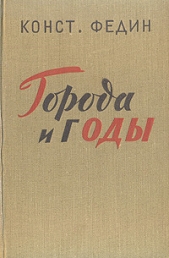Города и годы. Братья
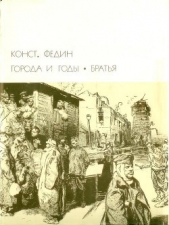
Города и годы. Братья читать книгу онлайн
Два первых романа Константина Федина — «Города и годы», «Братья» увидели свет в 20-е годы XX столетия, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.
Вступительная статья М. Кузнецова, примечания А. Старкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обсыпанный снежною пылью, налетевшей с реки, Никита стоял у обрыва, с которого только что кинулись на лед казаки.
Он следил за суетливою, спорою работой артелей и думал о младшем брате, Ростиславе, набившемся к какому-то казаку в подручные — подбагривать пойманных осетров — и вместе с лавиною войска ринувшемся под откос, на лед.
Ему была приятна отважность пятнадцатилетнего брата. Он мерил по нему, как по мерке, свою жизнь. Но жизнь брата и весь он, с отвагой, удалью, стремительностью и весельем, были необъяснимо странны ему, как странно было то, чтό он теперь перед собою видел.
— Никита Васильич! — расслышал он в снежном свисте.
Повернувшись, он различил женщину, — в пимах, в меховой тяжелой шубе, в пуховом платке, завязанном толстым узлом на шее. Она мягко, неуклюже спешила к нему, неслышно и часто переставляя пимы по утоптанному казаками снегу.
— Не узнали, — крикнула она, засучивая на голове платок, чтобы виднее было лицо. — Хорошая матушка купчиха, а?
Было похоже, что сама она очень довольна своим нарядом — так ярко и счастливо сияло на морозе ее лицо.
— Ну, здравствуйте, бродяга? В гостях, видно, хорошо, а дома лучше? Я видела вас вчера, на улице. Какая у вас походка! Откуда это? Я подумала — где уж нам! Ведь вы почти не касаетесь земли, ха-ха!
Никита только успел сказать:
— Варвара Михайловна…
Она не дала ему продолжать, рассматривая его, поворачивая за руку, как невидаль, и без умолку говоря, как будто потоком смеха и слов можно было выразить все, что хотелось.
— Ну, вы рады, скажите? Я вижу по лицу, что рады!
Он, правда, был рад и весело глядел ей в глаза, вслушиваясь, как полно и глубоко переливался ее голос в морозных вихрях.
— Смотрите, смотрите, Карев, — показывала она вниз, схватив его за руку и поворачивая лицом к реке, — как хорошо! Ведь хорошо! а?
— Хорошо.
— Ну почему, Карев, когда хорошо — хочется куда-нибудь бежать, дальше, дальше? Почему? Это всегда так?
— Да, — проговорил он, подумав, — это почти всегда.
— И вы… вы скоро уезжаете?
— Да.
Она выпустила его руку и неожиданно тихо спросила:
— Это — все, что вы имеете мне сказать?
Он обернулся к ней. Она глядела на него свысока, закинув голову, подняв брови. Губы ее подергивались, точно от обиды и ненависти. Вдруг она схватила Никиту за плечи, почти обняв его, и вскрикнула в жестокой злобе:
— Неужели вы еще не понимаете? Ведь я люблю вас!
Он с беспокойством отнял ее руки от своих плеч и опустил глаза.
— Я понимаю, — медленно, тяжело пересиливая смущение и словно проверяя себя, выговорил он. — Но я люблю… не вас…
— Неправда! — исступленно крикнула Варвара Михайловна, быстро отворачиваясь от Никиты и убегая в гору. — Неправда, неправда!
Он посмотрел ей вслед. Она бежала, неловко подгибая несуразные, тупоносые пимы. Ей неудобно было сгибать колени, валенки, меховая шуба мешали, утоптанный снег был скользок, бег ее неуклюж и смешон. Нет, ничто в ней не напоминало Анны!
Никита отвернулся к реке и стал наблюдать багренье.
В конце концов — каждый поднимался по своему взвозу, и взвозом Варвары Михайловны была любовь.
КАРАВАНЫ

Глава первая
Иногда Василь Леонтьич, в разгар какого-нибудь дела, оборвав мысль, приостанавливался, с сердцем хлопал себя пухлой ладонькой по боку и бормотал:
— Ростислав, ах, чтоб тебе!..
К войне Василь Леонтьич сильно разрыхлел, коричневая кожа его сделалась дряблой, на скулах, под глазами, мешковато свисла и еще больше потемнела в белой оправе бороды. Но Василь Леонтьич без устали действовал, без передышки жил. Немало дрожек было разбито и коней заезжено, а жизнь все ширилась, и степь как будто раздвигала свои края, и солнце жгло горячее. В войну стало все дорожать: поднимались в цене лошади и овцы, невиданные деньги приносило сено, сушеное яблоко наращивало банковский процент, и в сорочку чистого золота облеклось каждое пшеничное зерно. Хорошо было чувствовать в руке устойчивую державу богатства; хорошо было вести его в прочном поводу, как водили кочевые князьки неписаный жестокий домострой. Все было бы прекрасно, если б не перебивал мысли, не путался бы в памяти Ростислав!
О других детях Василь Леонтьич перестал помнить. Впрочем, нет — вспоминал, но только ненадолго, мельком, чтобы повторить навсегда решенные и прямые слова.
Про Матвея:
— Ему теперь масленица: то и делай — калекам капли прописывай!
Про Наталью:
— Так и знал, дура, за братом потянется, в докторицы. Матвей — человек, а она что? Шилохвостка!
Про Мастридию:
— Ханжа была, ханжой осталась.
Тут Василь Леонтьич обыкновенно вспыхивал и восклицал:
— Что это нынче бабы воевать полезли? Что ни мокрый хвост — то сестра милосердия! И все норовят на фронт!
Эта досада означала общее воззрение Василь Леонтьича, — отнюдь не беспокойство за участь Мастридии и двух младших дочерей, давно выданных замуж и тоже поступивших в госпитали сестрами.
Никита в представлении Василь Леонтьича умещался где-то по соседству с дочерьми, в бабьем разряде. Он все еще учился в Дрездене, и в начале военных действий Василь Леонтьич узнал, что сын остался у немцев.
— Казак! — ворчал папаша Карев. — Нешто казак может у неприятеля оставаться? На карачках к своим приползет! А этот что? Отца позорит, камертон говенный.
Музыкантов Василь Леонтьич любил. Изредка ему случалось бывать в войсковом собрании. Летом собрание перебиралось в городской сад и там, в деревянном павильоне, устраивало симфонические концерты. Оркестр, как и все в городе, был войсковой, настоящие казаки — с погонами, в шароварах — водили легонькие смычки по струнам. Стало быть, ничего зазорного для казака в струнной музыке не заключалось, и Василь Леонтьич мог быть спокоен за доброе свое имя. Когда Никита бросил скрипку, отец похмурился немножко, покорил:
— Мудришь. Скрипачом думал тебя сделать, а ты в регенты захотел.
Но он скоро смирился. По его мнению, Никита давным-давно достиг своей цели: он превосходно играл на скрипке. Однако Василь Леонтьич терпимо допустил, что скрипачу нужна какая-то особая наука, вроде высшей школы верховой езды, вольтижировка. Это было ему так же малопонятно, как в свое время — ученье Матвея после университета на профессора, и он многозначительно определял такое состояние смутным словом — «дальше».
— Учится дальше…
В душе он охладел к Никите, стал думать о нем не больше, чем о дочерях, и прозвал камертоном.
Кто был бы способен утешить Василь Леонтьича, так это — Ростислав. Он один мог расшевелить мирно дремавшие остатки казачьей его гордыни, заставить трепетнее бежать кровь по жилам тучного отцовского тела. Да, да, он мог это сделать и — к несчастью — сделал.
Конечно, он порадовал Василь Леонтьича, польстил его родительскому честолюбию. Он был казак, единственный в каревской семье, казак из тех, что из пригоршни напьются и на ладони пообедают.
Но — что таить греха — сам-то Василь Леонтьич, какой он был казак? Шарабанный, дрожечный, чуть-чуть не десяти пудов весу.
Всю свою нежность, весь отеческий застенчивый жар приберег для Ростислава — последнего своего сына, последнего ребенка. На этом мальчугане мужская, обильная мощь Василь Леонтьича, породившая пышное потомство, собралась воедино и иссякла. Папаша Карев отныне мог становиться только дедом, да еще прадедом, но крепкой сладости отцовства ему уже не приходилось испить. А он с любовной охотой породил бы еще двух-трех казаков! Однако нет, не казаков. Лучше уж — еще шилохвосток, еще одного камертона, только не казаков!
Конечно, Ростислав — гордость, Ростислав — каревская честь. Но ведь он — последнее, что дала Василь Леонтьичу его мужская, наилучшая пора, он — завершенье и знак каревской силы. И вот — пухлой ладонькой по боку: