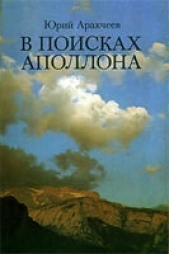В поисках синекуры

В поисках синекуры читать книгу онлайн
Герои книги писателя Анатолия Ткаченко, известного своими дальневосточными повестями, — наши современники, в основном жители средней полосы России. Все они — бывший капитан рыболовного траулера, вернувшийся в родную деревню, бродяга-романтик, обошедший всю страну и ощутивший вдруг тягу к творчеству, и нелегкому писательскому труду, деревенский парень, решивший «приобщиться к культуре» и приехавший работать в подмосковный городок, — вызывают у читателя чувство дружеского участия, желание помочь этим людям в их стремлении к нравственной чистоте, к истинной духовности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Надо же! — говорил он коту Пришельцу и еще кому-то невидимому, но постоянно вроде бы присутствующему в светлом, теплом, живом доме. — Обыкновенный одуванчик, который ногами топчут... А что написано о нем! «Его, как и подсолнечник, с полным правом можно назвать солнечным цветком. Если присмотреться, то луг, на котором поселился одуванчик, весной несколько раз в день меняет свою окраску. До восхода солнца он зеленый. Повыше поднимется солнце — весь луг загорится, запылает золотисто-желтыми цветками. К вечеру он снова зеленеет, в это время одуванчик закрывается на ночь, сжимая свои лепестки, словно засыпая, чтобы проснуться вместе с солнцем...» Поэзия, правда? Дальше пойдем: «Древние греки млечным соком одуванчика лечили болезни глаз. Одуванчику исстари приписываются различные целебные свойства. Когда-то его считали даже «эликсиром жизни», придающим человеку силу, бодрость, снижающим усталость...» Хорошо, прекрасно! Но вот, вот главное! Черт меня побери, если это мне хоть во сне приснилось! «Одуванчик давно культивируется в Западной Европе, особенно во Франции и Испании, как салатное и овощное растение. В зеленых листьях и бутонах одуванчика содержатся витамины, каротин, соли, протеин, углеводы; в млечном соке — кислоты; в корнях — полисахариды. Салаты из одуванчика, по утверждению американской энциклопедии плодово-овощных культур, способны «удовлетворить самый высокий вкус». Каков скромняга одуванчик! Да я из него корыто салата нарублю и бочку бутонов намариную! И не надо культивировать, на любой лужайке снимай урожай.
Его неописуемо удивляло, что листья пастушьей сумки в Японии и Индии жарят с мясом, добавляют в супы; сорную сурепку на Среднем Востоке разводят специально для салатов, приправ; в салаты пригодны клевер, подорожник, первоцвет, вероника, крапива; розеточные листья какого-то жерушника болотного «издавна высоко ценились в Греции, у римлян, в Индии. В хозяйствах Парижа жерушник выращивается для поставок на столичный рынок»; некая сныть, растущая чаще всего в дубравных лесах, идет на окрошку, ботвинью, приправы — она излюбленное овощное блюдо башкир, чувашей, татар, мордвы... Ему немедленно захотелось узнать, спросить у кого-нибудь: не забыто ли башкирами, чувашами их «излюбленное блюдо» сейчас? Даже заметку о диком луке он перечитал несколько раз: «В России простой народ ест сырой лук с хлебом, солью и квасом; это придает здоровье, сообщает свежесть лицу и сохраняет зубы».
— Сварю квасу! У Самсоновны возьму квасовый рецепт. Борискин продаст луку. Хлеб и соль имеются. Буду «сохранять» оставшиеся зубы. А с весны начну просвещать хуторян. Собственным примером. Не с голоду же французы едят одуванчики, а японцы — пастушью сумку. И предки соковичей наверняка кое-что знали о лесных и луговых растениях, да потомки начисто позабыли. Суетятся, правда, старухи, сушат травки на лекарства и припарки.
Пошел к соседке Самсоновне поговорить, пообщаться. Встретила она его у двери крикливо, удивленно:
— Вот легкай на помине. Я ж до тебя собралась! — и сунула ему в руки что:то круглое, обернутое холстинным полотенцем. — Смакова это, от Расеи для Евсеи, покушай фруктовый хлеб, оченно полезный. — Она хихикнула по своей привычке, договорила: — От моей души от всеи.
— Ну, вы прямо поэтесса! Каждый раз к Евсею прибавляете новое словечко. Благодарю.
— И тебе спасибо. Таким уважительным соседушкой бог наградил. Давай-ка чай пить будем.
Пришлось раздеться, пройти в горницу, сесть к столу, на котором тяжело громоздилась ваза довоенного изготовления со снопом фиолетовых бессмертников. Невольно подумалось: «А нельзя ли ими супчик заправить?..» Развернул темную булку смаковы, пахнущую кисловато, рябую от семечек малины, спросил:
— Что-то слышал о фруктовом хлебе, но смутно представляю...
— Да что представлять? Варю с яблоков, смороды, малины. Раньше, Евсей, и стекла не было мариновать фрукты, сушили, значит, да варили, навроде консервов своих. Теперь не умеют, хлопотно. А смакова, я тебе скажу, оченно полезна — что от желудка, что от простуды. И заместо сладкого к чаю — зубов не попортишь.
Самсоновна принесла на тарелочке ломтики смаковы, заварила две большие чашки чаю. Густо заварила, она пила чай крепкий — «для силы и веселого карактера», да и сама была хоть и сухой, морщинистой, однако крепкой еще, лупоглазо зоркой, носато хищноватой, не жаловалась на болезни. Таким был и дом ее: стар, прочен, прост, безунывен. По стенам — застекленные фотографии всех родных и близких со времени появления в России фотографического дела, в красном углу — икона закопченная над оплывшей воском лампадкой; комод, шкаф для чистой одежды, на подоконниках — зелень цветов, пол устлан тряпичными пестрыми ковриками. И бедно, и как-то несокрушимо надежно; произойди в мире любые потрясения, исчезни автомобили, телевизоры, небоскребы из стекла и алюминия, а дом Самсоновны останется таким же, ибо все здесь вековечно, выверено полезностью, легко восстановимо.
Смакова была резко кисла и сладка, припахивала медом, и, как ни пытался Ивантьев сравнить ее с повидлом, вареньем, сухофруктами, ничего не выходило: вкус был неповторим, объясним — одним словом, «смакова»: и смак, и мак, и прочие сладости в нем, кои можно только смаковать.
— Вкусно, — кивнул Ивантьев.
— Дохтор Защока сказывал: попью чайку со смаковой — всю ночь пишу-думаю, бодрительный фрукт.
— Я только что читал его книги про растения разные, огорчался, что многое забыто, а у вас вот фруктовый хлеб, травы, вижу, насушены, и весной вы зелень дикую берете, наверно?
— Крапиву. Щавель на грядке всходит.
— А эти — одуванчик, подорожник, пастушью сумку?
— Для лекарствов.
— Во Франции, Испании — блюда готовят.
— Ресторанныя?
— Да, и ресторанные.
— Хи-хи, Евсейка! — искренне развеселилась Самсоновна. — Ты еще в этом деле — простейка. Возьми одуванчик, спробуй — молочко горькое, как полынь. Штоб приготовить, мочить листики надо, а то отваривать да приправлять разно: уксусом, перчиком, сахарком, майонезом вашим. Тогда, может, покушаешь. Да и то если французом шибко захочешь сделаться. Брали, Евсейка, чего полекше, побыстрее сготовить. Весной-то, летом когда было блюда вкусныя придумывать?
— Ну, клевер, он не горький, коренья разные?
— Клеверов цвет ребятишки и теперь кушают, корешки цветка сараны — тож, кислицу еще... А што правда, то правда — много всего позабыли. Хорошо, хочь на лекарства начали собирать, таблетками налечимшись. Интересуешься травками — одобряю, оченно доброе дело. Дам тебе зверобою, мяты, стрелолиста, бессмертника, расскажу, чего для чего. И этих, на кушанья, дам. — Старуха пошуршала в своих мешках за печью, вынесла две связочки сушеных растений. — По-нашему, называется тенник и копытянка. Тенник — папоротник, значит, его Защока называет еще орляком, говорит, в Японию на экспорт отправляем. Ты вот вымочи сначала, потом суп вари, может, понравится. Копытянку растирают сухую и, будто перчиком, посыпают свои блюда ресторанныя, раз хочешь дикого овоща. А травки я тебе покажу, рада буду. Мои-то, одры городские, смеются: отсталость, толкуют, в век космонавтов. Ничего, думаю, застареете — припомнятся вам зверобои, валерианы.
— Вы правы, Самсоновна, дорогая. Не смеяться надо — слушать, учиться.
— Я вот и глаз отвести умела, и зуб заговорить. Борискин против меня борьбу вел, знахаркой обзывал. Я ему доказала. Одного ребеночка лечил, лечил по науке — толку никакого. Я вижу — напуганный ребеночек, сказала матери, штоб ко мне приводила. Неделя прошла — поправилось дитя. Дурной глаз в нем переглядела, душеньку его пуганую утешила. Защока говорит: никакого колдовства — внушение, наукой доказано. Теперь Борискин сам ко мне ходит, а тогда кричал: ты докажь, как делаешь, чтоб описать можно было! Писак газетных подсылал. Рази могу рассказать, если сама не знаю как? Умела — и все.
— Забыли? Отказались?
— Преследывали. Зареклась.
Ивантьев едва не усмехнулся, услышав «преследывали» — слово, чуждое лексикону Самсоновны, нарочито усвоенное ею. Однако не нашел скорого, вразумительного ответа. Сам бы он охотно пришел на бабкины «заговоры», «отводы», но верить в это при нынешнем уровне медицины вроде бы стыдновато. С другой стороны, признан, существует лечебный гипноз. Почему же горячим, темным, упорным глазам Самсоновны не обладать гипнозом? Внушать она умеет, да еще как! Всякий раз согласишься, поддакнешь ей, и любое ее желание выполнишь: копал картошку, чинил сени, латал забор... Хуторяне откровенно побаиваются Самсоновну, а молодежь, колядуя, как заведомой ведьме вредит ей. Но Анна пришла потом, извинилась... Характера, властности старухе не занимать, и детей своих наверняка сама отправила в город, по всеобщей моде; не захоти она этого — все бы сынки и дочки около нее гнездились. Хватилась, конечно, да поздно: «одрами городскими» стали. Вот и прозвала их едко, с явным намеком: как там ни подстраивайтесь, а настоящими горожанами не будете, имея сельские души.