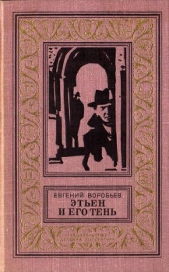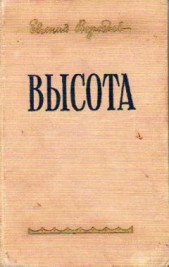Незабудка

Незабудка читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лебедками вызвался управлять инвалид, по прозвищу Паша-клеш, балтийский моряк, неведомо как попавший в этот сухопутный городок. Паша-клеш ковылял на своих костылях откуда-то издалека, но на стройку являлся чуть свет, а покидал ее только с наступлением темноты.
Комсомольцы лесопильного завода чуть ли не каждую неделю несли вахту имени партизанки Аграфены Олейник и доски, напиленные сверх плана, привозили на стройку.
В День Победы, когда над городком прогремел свой самодеятельный салют, стройка была в разгаре.
В городке строилось немало домов, и было к чему приложить руки, но никуда молодежь не шла так охотно на помощь, как к Гарновцу. Что касается самого Гарновца, то он совсем забыл дорогу домой. И отец его, и крестный определились работать на стройку плотниками, а мать три раза в день приносила всем им поснедать.
Кинотеатр поднял стены за несколько месяцев и намного обогнал все другие стройки.
Собираясь в областной центр с докладом, Аринич говорил не то шутя, не то всерьез:
— Опять Савелий Васильевич при всем народе меценатом обзовет.
Наконец пришло время позаботиться о фильме для торжественного открытия.
— Поновее картину подбери, — напутствовал Аринич Гарновца. — Пусть там, в области, побеспокоятся. Такую картину привези, которую сейчас в Москве смотрят.
Гарновец вернулся на следующий день, накануне открытия.
— Ну, привез новую картину? — спросил Аринич.
— Нет, Роман Андреевич. Я «Чапаева» на открытие взял.
— «Чапаева»?
— Думал, так лучше будет, — смутился Гарновец.
— Пожалуй, так лучше, — согласился Аринич. — Очень хорошо! Пусть «Чапаев». Отлично!
Но все-таки в глубине души Аринич был огорчен тем, что нет новой картины, и обеспокоен выбором Гарновца. А тут еще Аринич узнал, что на открытие кинотеатра приехал сам Савелий Васильевич.
5
Аринич поблагодарил родителей Гарновца за угощение и поспешно ушел в горсовет. Вслед за ним заторопились Тышко и Фрося; ей по-прежнему не удавалось выглядеть строгой.
Гарновец помчался в кинотеатр, чтобы еще раз проверить, все ли готово: докрасил ли Паша-клеш входную дверь, убраны ли последняя стружка, последние щепки и опилки.
Я остался в доме Гарновца и на открытие отправился вместе со стариками.
Кинотеатр был переполнен, сеанс должен начаться с минуты на минуту, а мне еще нужно разыскать в праздничной толчее Гарновца, Аринича, Тышко и Фросю. Времени оставалось в обрез — не смогу досмотреть картину до конца: пора прощаться.
Аринич протянул мне на прощанье руку.
— Ну, спасибо, что проведал. Очень хорошо! Отлично! Теперь приезжай в Октябрьские праздники. Открываем больницу. Если не открою в срок — не жить мне на белом свете. Восемьдесят коек. Операционная. Рентгеновский кабинет. Приемный покой... Не больница, а тысяча и одна ночь! Буду ждать... Нет, нет, и слушать не хочу! Приезжай обязательно. Ты как, на вокзал дорогу найдешь? Или тебе связного дать? Ну, тогда еще раз прощай...
Будто Аринич провожал меня, стоя на пороге своего блиндажа, а мне предстоит идти по дороге, которая простреливается.
Прежде чем начался сеанс, перед экраном появилась фигура человека с золотой звездочкой на отвороте пиджака, и отец Сергея сразу догадался, что это и есть Савелий Васильевич. Но как ни старался, не мог представить себе этого лысого, бритого, толстолицего человека в роли партизанского Кочубея.
Он был краток и почти каждую фразу сопровождал энергичным жестом. Тень от его руки, фантастически увеличенная, то и дело появлялась на белом полотне экрана, подчеркивая весомость слов.
В заключение он попросил почтить вставанием память Аграфены Олейник.
И вот наконец стук кресельных сидений стих, в зале погас свет, и лишь табличка «Запасный выход» светилась где-то сбоку, вырывая из темноты красную притолоку двери.
Картина была сильно изношена, лента часто рвалась. Но как великодушен был зал, с каким почтительным терпением сидели зрители во время этих заминок! Никто не топал ногами, никто даже не решился закричать: «Дядя Сережа, рамку!»
«Чапаев» властно овладел залом. Зрители воспринимали картину как новую. За годы войны подросли ребятишки, которые не видели «Чапаева» прежде. В зале сидели старики, которые не бывали в кино до войны. Но и те, кто помнил «Чапаева», смотрели картину сейчас как бы впервые.
Будто Василий Иванович Чапаев тоже был партизаном, каким-нибудь товарищем Ч., и воевал не где-то за Волгой, а вот здесь, в Белоруссии, совсем недавно...
В темноте я наскоро попрощался с родителями Гарновца и, пригнувшись, торопливо вышел из зала.
Дорогу на станцию я знал плохо, и полная оранжевая луна была очень кстати. Плотные тени причудливой формы лежали на широкой немощеной улице. Тени были с рваными краями и с синими прорехами там, где лунный свет проникал сквозь оконные проемы и проломы в стенах.
После Москвы казалось, что городок этот еще затемнен по случаю воздушной тревоги.
Не было надобности искать свой вагон где-то в тупике на станционных задворках. Почтовый поезд на Бобруйск ждал отправления на перроне станции, паровоз был под парами, и тут же, в голове поезда, стоял наш офицерский вагон.
В купе накурили так, что третьих полок не было видно. Два чемодана, один на другом, составили столик. Вокруг него сидели с картами.
— Куда это вас носило, батенька? — спросил подполковник, не отводя глаз от карт и с фамильярностью, которую он считал уместной в разговоре со всеми, кто был ниже его по званию. — В кино? Это после Москвы-то? Ха-ха! Вот рассмешил!
— А что удивительного? — подал голос пассажир с верхней полки. Теперь уже можно было разглядеть его за табачной завесой. Он следил за игрой, свесив голову вниз, и засматривал в карты то к одному, то к другому. — Не все ли равно: тут скучать или там скучать? Во всяком случае, веселее подкидного дурака.
— Тем более, если картина новая, — поддержала хорошенькая фельдшерица.
— Картина шла старая — «Чапаев».
Кто-то иронически свистнул. Мой сосед, пассажир с верхней полки, взял «Чапаева» под защиту, но его никто не слушал. Подполковник уже перетасовывал колоду, карты сданы, бубны — козыри.
Я залез на свою полку, повисшую в сизом дыму, лег и закрыл глаза.
Ни кондукторского свистка, ни ответного гудка паровоза я не слышал, и вагон дернулся с места, полный внезапного грохота.
1947
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ВАЛЬС
Конферансье поставил на середину сцены стул, сварливым голосом объявил следующий номер программы, и в боковой дверце показался баянист. Он сел на стул, положил баян на колени, поправил на плече ремень.
Мокшанов заерзал на скамейке, затем подался ко мне и, горячо дыша в ухо, зашептал:
— Ну кто бы мог подумать? Ей-богу, он! Петр Матвеич, он самый. Нет, вы только подумайте!
И так как лицо мое не выражало, очевидно, ничего, кроме крайнего недоумения, Мокшанов стал теребить меня за рукав.
— Он, ей-богу, он! Петр Матвеич, собственной персоной. Вот так встреча!
Мокшанов говорил таким тоном, будто я упрямо отказывался признать в этом неизвестном мне человеке Петра Матвеевича.
За все дни нашего знакомства я не видел Мокшанова таким возбужденным.
— Вот видите, — сказал он укоризненно, — а вы не хотели идти на концерт...
Дело в том, что концерт этот шел в соседнем санатории, куда нас никто не приглашал. Но Мокшанова это смутить не могло.
— Мало ли что не приглашали, — сказал он. — А мы с черного хода пойдем. Я знаю лазейку в заборе. Удобнее, чем ворота. А то еще кругом обходить...
В Мокшанове была веселая житейская удаль, слишком безобидная, чтобы быть названной бесцеремонностью, удаль, которая хороша уже тем, что не знает излишней застенчивости.