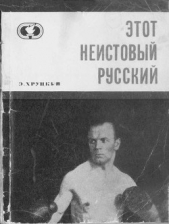Русский лес (др. изд.)
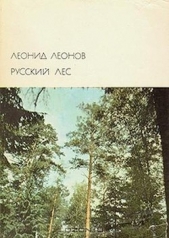
Русский лес (др. изд.) читать книгу онлайн
Леонид Максимович Леонов за выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и создание художественных произведений социалистического реализма, получивших общенародное признание, удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.
Роман Леонида Леонова “Русский лес” — итог многолетних творческих исканий писателя, наиболее полное выражение его нравственных и эстетических идеалов.
Сложная научно-хозяйственная проблема лесопользования — основа сюжета романа, а лес — его всеобъемлющий герой. Большой интерес к роману ученых и практиков-лесоводов показал, насколько жизненно важным был поставленный писателем вопрос, как вовремя он прозвучал и сколь многих задел за живое.
Деятельность основного героя романа, ученого-лесовода Ивана Вихрова, выращивающего деревья, позволяет писателю раскрыть полноту жизни человека социалистического общества, жизни, насыщенной трудом и большими идеалами.
Образ Грацианского, человека с темным прошлым, карьериста, прямого антагониста нравственных идеалов, декларированных в романе и воплотившихся в семье Вихровых, — большая творческая удача талантливого мастера слова.
Вступительная статья Е. Стариковой.
Примечания Л. Полосиной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чтоб не осложнять дела, Морщихин должностей своих не назвал, но сразу понял, что, в сущности, вопрос хозяина касался того, каким образом он, молодой человек, избегнул мобилизации своего возраста.
— Нет, нет, Александр Яковлевич, я именно на войну и еду, — не моргнув глазом, успокоил его Морщихин.
Такого рода замечание должно было предостеречь Грацианского; уже тогда он в каждом посетителе видел подосланного с особо сыскными целями, но душевное его расстройство еще не достигало своего рокового предела, и он, самонадеянно решив, что непременно обыграет своего партнера, если тот не предъявит каких-нибудь чрезвычайных козырей, широким жестом пригласил гостя в кабинет.
Они последовали во вторую, по коридору, комнату направо, застланную ковром, с глухими книжными шкафами и тяжелыми полураздвинутыми гардинами; свежий снег за окном пасмурно отражался в стеклах шкафов и антикварных безделушках, скромностью своей способных обмануть неискушенного посетителя. Усадив Морщихина в кресло и создав ему необходимый уют в виде пепельницы и припасенных на такой случай дешевых папирос в стаканчике тусклого серебра, хозяин отошел к окну и долго наблюдал, как саперы бережно, даже благоговейно грузили в кузов машины каплеобразную болванку с отломившимся стабилизатором.
— Не могу скрыть от вас, уважаемый товарищ, что действительно вы выбрали не совсем удачный денек для беседы на столь интересующую вас тему, — мягко зашелестел Грацианский, как только саперы увезли ее наконец. — Война посетила и наш тихий, благословенный тупичок. В ушах моих все еще звучит огненный шквал, скрежет камня, грохот, э... да, именно так: обваливающегося неба. Дело в том, что в минувшую ночь я потерял если не самое близкое, то, во всяком случае, бесконечно дорогое мне существо, с которым связаны лучшие воспоминания моей юности. Горько признаваться на закате, что, несмотря на все мои многолетние старания завоевать признательность современников, это было единственное существо, которое меня... да, пожалуй, любило! С раздробленными ногами оно угасало буквально у меня на руках, и, примечательно, последний его вздох выражал проклятие, э... ну, скажем, вчерашнему дню. Именно это внушает мне глубокую веру в это самое, как его, в окончательное торжество дела, которому мы с вами посвятили наши жизни. Однако подобные потрясения не проходят бесследно, и потому до конца дней я буду носить в сердце воспоминанье об этой бомбежке, как старые солдаты носят в себе... ну, как оно называется?.. да, осколок вражеского железа. Нет, нет, оставайтесь, не покидайте меня, — опередил он, заметив слабое движенье в морщихинском кресле, объяснявшееся всего лишь попыткой гостя воспротивиться этому нажиму, под которым начинала плавиться его воля. То был вовсе не намек, а только естественный поиск сочувствия. — Человек, подобно вам отправляющийся в бой за передовые идеи века, имеет право на внимание к своим неотложным, хотя, признаться, хе-хе... и несколько причудливым нуждам. Единственное наше утешение состоит в том, что любое горе лишь временно омрачает нашу так называемую душу, но потом ее снова пронизывают во всех направлениях лучи жизни со своими могучими и полнокровными противоречиями, э... не так ли?
Он плел вокруг гостя свою паутину, и Морщихина все сильней охватывала нарастающая сонливость, как если бы усыпляли перед операцией. Самое кресло до такой степени послушно согласовалось с любым положеньем тела, что сперва начали пропадать мысли, отниматься ноги, и под конец пришлось пощупать украдкой, не одеревенел ли нос. Остатками сознания он сообразил все же, что только вполне беспощадный к людям человек способен столь щедро делиться своими переживаниями по поводу утраты незабвенного существа, что вся его лирическая болтовня — лишь завеса, за которой он неторопливо обдумывает варианты контратаки, что, в сущности, при внешней многословности этот гражданин не разговорчивей плиты могильной. Раздражающая двойственность впечатлений заставила Морщихина еще раз приглядеться к собеседнику в сопоставлении с окружающей обстановкой.
Аскетическую отрешенность от всего житейского, телесного, обывательского в облике Александра Яковлевича Грацианского, в особенности эти впалые глазницы, высокий лоб, землистые щеки, стоило бы даже закрепить на холсте в образе какого-нибудь заграничного отца церкви, вроде Августина той поры, когда он, презрев земное, начал прозревать небесное... если бы не легкомысленной раскраски галстук, шлепанцы на ногах с меховыми шариками и препышная, не на гагачьем ли пуху, венгерка, несколько жарковатая по такой натопленной квартире; к слову, как ни искал глазами Морщихин, так и не нашел поблизости источника столь умиротворяющего, вяжущего тепла. Домашней работницы Грацианские не держали, обстановка же носила оттенок показной умеренности, рассчитанная на чью-то постороннюю любознательность... но рождалось невольное подозрение, что ужасно много всякого добра скрывалось в стенных чуланчиках, тайничках с замочками, да и в самом кабинете нашлась скрытая ниша со шторкой, из-под которой предательски свешивалась связка сухих белых грибов. В иное время Морщихин лишь порадовался бы, что выдающиеся мыслители нашего времени столь приятно поживают при советской власти, но сейчас было нечто неприличное, даже отталкивающее в том, до какой степени не чувствовались здесь бедствия народной войны. Словом, в полуосажденной Москве Морщихину еще не попадалось такого благополучного жилища под семью перекрытиями, жилища с полностью сохранившимися стеклами, проклеенными полосками кальки от взрывной волны, с отменной тишиной, нарушаемой лишь стуком часов да подозрительными шорохами третьего лица за полуприкрытой дверью, и, в заключение, с таким разлитым в воздухе кофейным благоуханием, что гость, притащившийся натощак, стал испытывать сосущее желудочное беспокойство.
— Крайне печально, что вы запоздали к завтраку, и я не смогу предложить вам стакан, э... чего-нибудь такого, — деликатно извинился Грацианский, приметив легчайшее шевеленье морщихинских ноздрей. — Впрочем, если вы располагаете временем...
— О, не беспокойтесь, я довольно плотно закусил в дорогу... и, может быть, с вашего позволения, мы перейдем прямо к делу? — стряхнув оцепенение, зашевелился Морщихин. — К сожалению, время слишком ограничено у всех, как вы глубоко подметили, отъезжающих в бой за передовые идеи века.
Он явно начинал сердиться, прежде всего на себя за свое необъяснимое подчинение чужой холодной и враждебной воле.
— Тогда чудесно... — согласился хозяин и слегка поморщился на повторившийся шорох за дверью. — Я надеюсь, что часа вполне хватит вам, э... для интересующего вас разговора? Но если бы вы обрисовали пополней профиль вашей работы, мы смогли бы истратить этот час возможно продуктивнее.
Поглаживая затекшие колени, Морщихин терпеливо изложил тему диссертации, указал на недоступность ленинградских архивов, для краткости умолчав как о своей предвоенной поездке, так и о зубатовщине, и в заключение подсластил все это ссылкой на лестные отзывы о памяти и любезности своего собеседника. Тот весьма резонно возразил, что по указанному периоду русской истории в мемуарной литературе имеются классические творения, до такой степени исчерпавшие весь известный материал морщихинской темы, что было бы безумием тратить силы в поисках кладов на стороне. Морщихин сходился с ним в оценке некоторых из такого рода книг; однако, по его мнению, записанные не по свежему следу и без дневников, воспоминания всегда носят на себе печать вымысла и авторского округления действительности, а самые блистательные историко-политические исследования, как выразился он коснеющим от неизъяснимой тоски языком, в большинстве представляют собой философский или статистический концентрат отсутствующих, к сожалению, хотя само собою и подразумевающихся фактов. «Конечно, книги эти бесценны для людей просвещенных, вроде нас с вами, — через силу схитрил Морщихин в духе вихровских советов, — так как приводят в стройность уже накопленные знания, но рядовой читатель желает знакомиться с прошлым во всех житейских подробностях, и претензии эти до некоторой степени основательны, потому что апелляция к сердцу всегда доходчивей, чем к уму, и, к слову сказать, в этом вечный смысл искусства, и оттого выводы, самостоятельно возникающие в душе читателя или зрителя после прочтения книги или просмотра театрального представления, закрепляются неизмеримо прочнее тех, что в готовом виде провозглашаются со страницы или у рампы».