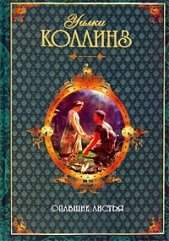Атланты и кариатиды (Сборник)

Атланты и кариатиды (Сборник) читать книгу онлайн
Иван Шамякин — один из наиболее читаемых белорусских писателей, и не только в республике, но и далеко за ее пределами. Каждое издание его произведений, молниеносно исчезающее из книжных магазинов, — практическое подтверждение этой, уже установившейся популярности. Шамякин привлекает аудиторию самого разного возраста, мироощущения, вкуса. Видимо, что-то есть в его творчестве, близкое и необходимое не отдельным личностям, или определенным общественным слоям: рабочим, интеллигенции и т. д., а человеческому множеству. И, видимо, это «что-то» и есть как раз то, что не разъединяет людей, а объединяет их. Не убоявшись показаться банальной, осмелюсь назвать это «нечто» художественными поисками истины. Качество, безусловно, старое, как мир, но и вечно молодое, неповторимое.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но он, он любил и это. И понимал по-своему.
Нет, после такой перемены, какую увидела в нем, она уже и не намеревалась отговаривать его, упрекать, упрашивать. Хорошо знала, что все слова будут напрасны. Почему он вдруг за какие-то три часа вдруг стал такой?..
— Какой? — засмеялся он тогда на ее вопрос.
— Как... после причастия.
— Ольга, ты начиталась Блока, — и, обняв, горячо поцеловал в губы, еще раз доказав этим, как он обрадован, возбужден.
— Ты не хочешь мне ничего сказать?
— Что сказать?
— Где ты был? С кем встречался?
— Не думаешь ли ты, что я с девушкой встречался? Может, думаешь, с Леной?
— Нет, не думаю. От встреч с Леной ты не становился такой.
— Да какой? Я просто хорошо погулял. Люблю метель. И фашисты не испортили мне настроения. Попрятались в норы от вьюги.
— Ты не доверяешь мне?
— Ольга, я ничего от тебя не таю.
— Поклянись.
— На чем? На Библии, которую ты читаешь? — насмешливо хмыкнул он.
Ольга обиделась, надулась.
...Обнимая подушку, сохранившую, казалось, его живое тепло, его запахи, Ольга проклинала себя за холодность свою. Как она могла обращаться так с ним, когда человек, возможно, готовился к смерти? Оттого и просветленный такой был, действительно как после причастия. Не могла уснуть всю ночь, светлую от искристого снега за окном, от луны, но черную, как яма, от ее мыслей. На рассвете, когда ребенок спал и Лена Боровская еще не могла уйти на работу в немецкую типографию, Ольга бросилась к подруге. Не любила она Лену, в ту ночь, думая о ней, почти ненавидела, но не забывала, что в тяжелую минуту ее всегда тянуло именно к Лене, лишь Лене она могла доверить не только сердечную тайну, но и жизнь — свою и того, кто стал дороже жизни.
Лена только проснулась. Наверно, от длительного голодания у нее припухло под глазами, и от этого она выглядела очень постаревшей, почти сорокалетней женщиной. Мать кормила ее холодной, с вечера сваренной в мундире картошкой, и картошка эта, казалось, застревала у Лены в горле. Ранний Ольгин приход испугал Лену, Ольга это сразу заметила, и у нее подкосились ноги: показалось, что Лена знает что-то страшное, потому и испугалась, увидев ее.
Разговор начала старая Боровская, попросила:
— Олечка, одолжила бы ты нам соли, а то не ест Лена без соли, совсем изголодалась, глупая. Чем только живет, не понимаю. Да ешь ты, доченька.
— Одолжу, тетя, сегодня же принесу.
— Разживемся — отдам.
— Когда это и на чем ты разживешься? — сурово спросила у матери Лена. — В кабалу к Леновичихе залезешь?
— Как же ты обо мне думаешь? — обиделась Ольга до слез; в другое время она бы в грязь втоптала Ленку за такие слова, а тут даже не разозлилась, просто очень обиделась.
Старуха сказала примирительно:
— Дружите, детки, не ссорьтесь. Теперь вся наша сила в дружбе.
Ольга спросила боязливо, шепотом:
— Где Саша, Лена?
— Саша? А что? — Лениной сонливости сразу как не бывало: прояснившиеся глаза смотрели вопросительно. Ольгу немного успокоило, что Лена так встрепенулась: значит, ничего не знает, просто, наверное, подумала, что-то случилось плохое, раз Ольга прибежала в такую рань, ведь еще и комендантский час не кончился.
— Вчера после обеда ушел... ничего не сказал...
Тогда успокоилась Лена, будто усмехнулась, или это пламя коптилки ярче вспыхнуло и осветило ее лицо; расслабленно поправила платок на плечах и заинтересованно, не так равнодушно, как до этого, стала выбирать картофелину. Упрекнула ворчливо:
— На сутки человек отлучился, а ты уже бегаешь по всему городу. Как же это ты его не привязала к юбке? Не привязывается, а? Скользкий, что ли? — теперь уже открыто издевалась Лена.
— Злая ты, Леночка, становишься, — упрекнула Лену мать, но тут же тяжело вздохнула. — Ты прости, Олечка, работа у нее тяжелая, а харчи, видишь, какие... А Ольгу не упрекай, все мы, бабы, такие... Полюбила она его.
— Полюбила! Скажи — присвоила!
— Зараза ты, Ленка! — У Ольги задрожали губы. — Я к тебе с открытой душой...
Лена стремительно поднялась, отпихнув от себя очищенную картофелину, начала завязывать платок.
— Опять ничего не съела, — сокрушалась старая Боровская.
— Не обижайся, Ольга, — добродушно, примирительно сказала Лена. — Может, я от зависти так. Я и в хорошее время не смогла полюбить. А ты и сейчас можешь любить. Не горюй, вернется твой Саша, — сказала она так решительно, что Ольга поверила и успокоилась.
Но спокойствия этого хватило разве что на утро, пока растапливала печь, кормила Свету, убирала в доме, кстати, более старательно, чем обычно, будто ожидала гостя или готовилась к празднику.
Новую тревогу... нет, не тревогу, ужас принесла тетка Мариля, Светина нянька. Ольга еще вчера договорилась с ней, чтобы та поиграла с ребенком, чувствовала, что не выдержит, не усидит целый день дома, если Саша не вернется.
Хорошая эта старуха, добродушная, она знала, откуда, как появился у Леновичихи квартирант, как тяжело он болел, помогала его лечить и жалела беднягу. Но сейчас неизвестно, от доброты и жалости или от недостатка душевной чуткости тетка Мариля сказала Ольге:
— Людское радио, Олечка, передает, вся Комаровка толкует, что сегодня утром проклятые фрицы вновь повесили около Дома Красной Армии наших людей... партизанов, говорят... А кто они, один бог знает.
У Ольги вмиг все омертвело — руки, ноги, глаза, язык. Слова вымолвить не могла, не хватало сил. Стояла, белая как полотно, смотрела на Марилю... и не видела ее, видела, как в тумане, страшные фигуры повешенных и среди них его, Сашу...
А потом сердце будто сорвалось с места, с болью разорвалось в груди, и каждая частичка так же больно забилась, затрепетала в висках, в пальцах рук, во всем теле.
Ольга бросилась к старухе, схватила ее за плечи, встряхнула:
— Тетечка, скажи — он там?
— Да нет, любочка моя, нет. Никто не знает, никто не видел... Да и чего бы ему там быть? Что он сделал? Болел же. — Хотя Ольга ничего не сказала, кажется, и не пошевелилась даже, Мариля стала тут же отговаривать: — Олечка, не ходи туда... Не нужно тебе. Лучше я, старая, схожу. Было же уже так осенью, повесили троих на Червенском, а сестра пришла, узнала брата, заголосила, так они, гады, тут же схватили ее, хотя ни в чем она не виновата... А кто виноват?
Нет, не пойти Ольга не могла, как бы ни убеждала ее старая женщина. Почти убедила, что не может там быть ее любимого. Далее страх отхлынул, тот, первый, смертельный, и сердце точно вернулось на место. Но не могла она не посмотреть на повешенных! Не от страха, что о н там. И не из обывательского интереса, как могло быть прежде. Нет, теперь было что-то другое, как бы вступление в новую жизнь, желание встретиться лицом к лицу с той опасностью, которая будет подстерегать ее в этой новой жизни каждый день, каждый час. Видела смерть отца, раздавленного трамваем, тихую смерть матери в огороде, смерть людей под бомбежкой, смерть старого еврея, которому немец выстрелил в горло, трупы людей за лагерной проволокой. Как же умирают те, кто не хотел покориться чужеземцам, как не покорился он, ее Саша? Не так давно она еще надеялась, что победит ее правда, что ласками своими и устроенностью быта она заставит его покориться не врагу — ей, одной ей, и заставит жить так, как живет она. Надежда поколебалась, когда Олесь застрелил немца. Теперь, когда парень неизвестно куда пропал, исчезла и всякая надежда. Нужно было готовиться к новой жизни. И все увидеть своими глазами.
Когда Ольга, одетая уже, целовала дочь, Мариля предупредила:
— Не забывай о Светке. С кем она останется?
Мысль о дочери вынуждала быть осторожной. И все равно по своим комаровским полупустынным улицам она почти бежала, задыхаясь от волнения. От сильного мороза, казалось, затвердел воздух, нельзя было ни вдохнуть, ни выдохнуть, колючими иглами кололо горло, легкие.
Но на Советской, несмотря на холод, народу было немало, и каждый второй — в зеленой, мышастой или черной шинели. Ольга пошла медленнее, хотя навряд ли нужна была такая осторожность — мороз подгонял всех, заставляя бежать. Немцы пританцовывали, постукивая замерзшими ногами, потирали уши и от этого казались веселыми, возбужденными.