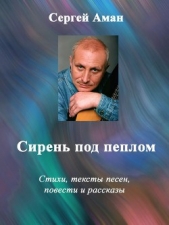Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень
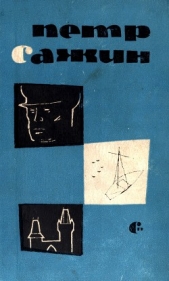
Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень читать книгу онлайн
В книгу Петра Сажина вошли две повести - «Капитан Кирибеев», «Трамонтана» и роман «Сирень».Повесть «Капитан Кирибеев» знакомит читателя с увлекательной, полной опасности и испытаний жизнью советских китобоев на Тихом океане. Главным действующим лицом ее является капитан китобойного судна Степан Кирибеев - человек сильной воли, трезвого ума и необычайной энергии.В повести «Трамонтана» писатель рассказывает о примечательной судьбе азовского рыбака Александра Шматько, сильного и яркого человека. За неуемность характера, за ненависть к чиновникам и бюрократам, за нетерпимость к человеческим порокам жители рыбачьей слободки прозвали его «Тримунтаном» (так азовские рыбаки называют северо-восточный ветер - трамонтана, отличающийся огромной силой и всегда оставляющий после себя чудесную безоблачную погоду).Героями романа «Сирень» являются советский офицер, танкист Гаврилов, и чешская девушка Либуше. Они любят друг друга, но после войны им приходится расстаться. Гаврилов возвращается в родную Москву. Либуше остается в Праге. Оба они сохраняют верность друг другу и в конце концов снова встречаются. Для настоящего издания роман дополнен и переработан.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тепло, пахнет старыми вещами и тем неопределенным запахом, который ощущаешь лишь в родном доме. Гаврилов взял с комода фотографию отца и прилег на старенький, обитый плюшем диван. Фотография вызвала грустные воспоминания: как все–таки нелепо ушел он из жизни! Словно вещий Олег, принял смерть от коня своего: выезжал жеребца и внезапно почувствовал себя плохо — упал на гриву коня, а тот испугался, понес и скинул Никиту Петровича прямо на асфальт у конюшен, где отец и умер, не приходя в сознание.
У Гаврилова три сестры. Они выросли хорошими рукодельницами, настоящими умницами–красавицами и конечно же своевременно, а кое–кто и несколько раньше, были обнаружены: первая капитаном медицинской службы, вторая — журналистом из дальневосточной газеты, а третья — полярным летчиком, и увезены, с согласия родителей, далеко от Москвы, к месту службы мужей. А Василек еще долго жил с родителями.
Отец внешне выглядел бирюковатым. Его узкие, монгольские глаза под выгоревшими на солнце бровями были невероятно цепки. Никите Петровичу достаточно было, не поднимая хлыста, просто посмотреть на провинившуюся лошадь, как та пятилась, качала головой, словно пыталась стряхнуть с себя его колючий взгляд.
Под взглядом Никиты Петровича робели даже отважные табунщики, ветром носившиеся по степи на отчаянных аргамаках.
Он был невысок ростом, с широкими, словно бы тесаными, плечами, с кавалерийскими, «циркулем», ногами.
Лицо в морщинах и рубцах. За каждой метой скрывались потрясающие истории: не раз падал он с диких скакунов и замерзал в степи.
Но этот с виду суровый человек имел нежное сердце и без ума любил свою семью, степь и, конечно, коня, которого сам он в этом перечислении поставил бы на первое место.
Всем отцам хочется, чтобы их дети стали образованными, трудолюбивыми, физически крепкими, ну, может быть, еще и талантливыми…
Отец был человеком трезвого ума, он понимал, что гении не яблоки, и надеялся, что из Василька вырастет просто порядочный человек. Жизнь Никиты Петровича хотя и протекала среди «непарнокопытных», но он хорошо разбирался и в природе человека. Принесут домой парня с расшибленным носом — мать начнет охать да ахать, а Никита Петрович посмотрит и скажет:
— Что вы его хороните? Казака раны украшают.
Мать запричитает:
— Да как же, Никитушка! Какой же он казак? Дитя малое…
— Ну что ты, мать! — удивится Никита Петрович. — Не срами парня. Смотри, он от стыда плачет. Казак без царапин — что конь без всадника.
…Мать все не приходила. Гаврилов стал гадать, где она может быть. За хлебом стоит в очереди? Он пытался представить себе, как выглядит она. Исхудала, наверно. Сколько же выпало на ее долю! Особенно трудно она пережила май 1933 года.
Донская степь. В прозрачной вышине «вьют колокольню» степные орлы, высматривая ротозеев сусликов. Голову кружит запах меда. Тишина… Но вот над вытканной шелками степью, над богатым убором разнотравья вдруг пробежит ветер, и степь заколышется, заиграет, и хлынет навстречу лавина запахов! Тут и чабрец, и полынь, и мята, и земляника… Эх, родная степь донская! Сколько же в тебе благодатной красоты! Радоваться на нее и не нарадоваться. А отец шагает рядом с лошадью, опустив голову, и отчаянно смолит папиросу за папиросой. Мать сидит у изголовья Василька. Час назад, прыгая на трехлетку во время пробежки ее по кругу, он не удержался — кобыленка была норовистая, взбрыкнула, — соскользнул на круп, а оттуда — наземь и угодил под копыта сорвавшегося с привязи жеребца. Кобыла и погнавшийся за нею жеребец были уже далеко в степи, а Василек, захлебываясь кровью, катался по земле. Теперь его везут на пароконной линейке в Семикаракорскую, в больницу.
От того времени осталась белая полоска под подбородком. Жизнь в Подмосковье была отмечена плешинкой над правым ухом, размером с кокон шелкопряда. Сорваться с макушки высокой сосны — это совсем не то, что прыгнуть с вышки в воду. На счастье, рядом росла на редкость пушистая елочка…..
Гаврилов уже начал дремать, когда услышал во дворе громкий мальчишеский голос:
— Бабушка! А к вам сын приехал. С фронта! Орденов — уй! Вся грудь. Да вы что, не верите?
Мальчишка свистнул и затем крикнул:
— Серега–а–а! Мотай сюда! Скажи бабушке, верно, что сын ее приехал?
— Чтоб мне с места не сойти! — быстро проговорил Серега.
— Ну ладно, ладно! — сказала Екатерина Никитична. — Спасибо вам, ребятушки.
Гаврилов встал с дивана. Поправил подушку. Одернул гимнастерку, пригладил ладонью волосы.
Мать вошла тихо и плавно, будто вплыла.
Остановилась на миг в дверях, словно не веря тому, что этот высокий, широкоплечий, загорелый молодец ее сын. Но когда увидела белый шрамик под подбородком, страстно, с какой–то жадной тоской зашептала:
— Сыночек! Ты ли это? Господи!
Гаврилов шагнул навстречу:
— Мама, мамочка!
Мать то целовала «кровинушку свою», то слегка откидывалась, помолодевшая и словно бы очищенная радостью от привязавшихся к ней за годы ожидания сына морщин, улыбалась молодо и счастливо…
Подарки сына: кофта из толстого, цвета темной малины гаруса, кашемировая шаль и мягкие шевровые туфли на низком каблуке — все пришлось матери впору.
— Спасибо тебе, сыночек, за внимание!
Она прошлась по комнате, остановилась перед зеркалом, повела плечом, разглядывая, хорошо ли сидит на ней жаркая кофта. Глаза сверкнули, она зарделась и, вспомнив годы молодые — эх, и легка же и шустра была! — воскликнула:
— Господи! Что ж я тут верчусь! Ты небось голодный, сынок? — Легко застучала каблуками. — Пойду приготовлю! А ты, Василечек, отдохни пока! Покури. Ты куришь?
Гаврилов кивнул.
— Господи! — вздохнула мать. — Большой уж стал, мужчина! А я — то, — она усмехнулась, — все как о ребенке думаю. Ну, я сейчас!
Пока мать под охи и ахи соседок стряпала на кухне, Гаврилов вынул из чемодана и поставил на комод миниатюрный будильничек в кожаном футляре–сумочке. Хотел было присоединить и фотографию Либуше, но раздумал: мать еще надо подготовить.
К ее возвращению в комнату на столе уже стояли вскрытые мясные консервы, свиная тушенка, баночка «Рузвельта» — так называлась тогда американская колбаса, рыба, печенье, шоколад, банка ананасов и бутылка коньяку. Все это Гаврилов привез с собой, зная, что москвичи еле–еле концы с концами сводят, с трудом «отоваривая» свои продовольственные карточки.
Мать ахнула при виде такого стола. Правда, в Москве были коммерческие магазины, но цены в них, как сказала мать, «кусаются»: килограмм сахара стоит что–то около четырехсот рублей, а она всего жалованья получает лишь шестьсот. Ну, еще по аттестату столько же, да за мужа около двухсот рублей пенсии. Для твердых цен это еще ничего, а для коммерческих — не деньги…
И за ужином и после мать и сын много говорили, но всего переговорить, конечно, так и не успели.
Легли поздно. И, вероятно, легли бы еще позднее, да матери на работу к семи. Она назвала какое–то учреждение, но Гаврилов не запомнил — глаза у него уже слипались.
Гаврилов уснул, по фронтовой привычке, тотчас же, как только голова коснулась подушки. А к Екатерине Никитичне сон не шел, «глаза хоть зашей», — докучали вопросы, сомнения. Ну вот хотя бы невестка. На карточке она очень хороша! А какая на самом деле?.. Екатерина Никитична вздохнула: «Еще не поженились, а уже беременна. Ах, молодежь! Ну куда спешат? Мы вот с Никитой не спеша, по закону, и прожили хорошо, и детей вырастили. А тут без родительского согласия кинулись друг к другу… Ну Василек–то, я понимаю, мужчина! И, как ни говори, казацкого роду. А казак — мужик, известно, бешеный! А вот она–то что? Неужели женской гордости не хватило? Выждала бы! На меня Никита тоже сразу начал напирать, а я ведь выдержала. Василек, видать, в отца пошел. Ах, господи, господи! А кто будет–то — внук или внучка? Очень хочется внука… А как же жить–то будем в одной комнате? Василек говорит, что ему дадут: фронтовику, да еще с дитем… А с чего давать–то? Что он, один фронтовик? Сколько их миллионов придет с фронта. Правда, не все из Москвы. А строят–то не больно… Может быть, как с войной кончат, и пойдет по всей стране строительство? Конечно, пойдет! Без строительства никак нельзя: война наломала столько!..»