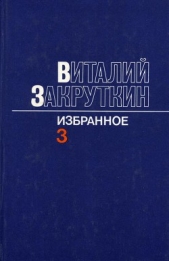Сотворение мира.Книга вторая

Сотворение мира.Книга вторая читать книгу онлайн
Вторая книга романа Виталия Закруткина «Сотворение мира» посвящена трудному и сложному десятилетию в истории Советского государства — 30-м годам. На примере затерянной в глуши деревни Огнищанки писатель показывает разные судьбы своих героев — крестьян-земледельцев.
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Миновав ряд верб, дед Левон стал подниматься по склону заснеженного холма. Дышал он хрипло, как запаленный конь, шел, согнутый в поясе, еле волоча отяжелевшие ноги, тощей грудью опираясь на суковатую палку. Увязая в снегу, потеряв шапку, он все-таки дополз до межи. Идти дальше у него уже не было сил, хотя он хотел подняться на вершину холма, чтобы последний раз взглянуть на деревню, в которой родился и прожил всю свою долгую нелегкую жизнь. Но и отсюда, с пологого склона, на котором он остановился, содрогаясь от мучительного кашля и слез, хорошо были видны пруд и кладбище за прудом и крайние огнищанские хаты с еле заметными огоньками в окнах.
Уронив палку, дед Левон сел на снег. Ветер шевелил нечесаные космы его седых волос, морозным холодом обжигал шею и спину. Дед не чувствовал ни ветра, ни снега, ни холода. Долго сидел он, обняв руками колени, всматриваясь в темные очертания хат, потом разгреб пушистый, податливый снег, стал на четвереньки, коснулся щекой мерзлой, твердой как камень земли и замер, охваченный болью и острой мукой.
Вся его жизнь, точно в ослепительном озарении, промелькнула перед ним в этот миг. Он вспомнил бесконечные годы тяжкой, непреходящей работы, будто наяву видел каждого вола и каждого коня, которых он, Левон Шелюгин, не жалея ни себя, ни скотину, гонял по полям до седьмого пота, до изнурения. Не один вол и не один конь, замученные им, падали, надорвавшись, в глубокой борозде, и он снимал с них шкуры, а в тяжелый плуг запрягал новых волов, новых коней, и, казалось, не было этому конца.
Рыдая, он терся щекой о землю, и слезы замерзали на облезлом вороте его полушубка, и уже казалось ему, что сквозь снежную заметь идет к нему его покойная жена. Ведь это он, жадный до земли, до работы, сгубил ее. Вся деревня еще спала, а он до рассвета уходил с женой в поле. Еще и заря не занималась, а они пахали, боронили, сеяли, пололи, косили, таскали тяжеленные снопы. Вот на этом самом холме, на этом поле — сейчас оно покрыто снегом и окутано холодной тьмой, а тогда пахло пшеницей и цветами, — она, его жена, надорвавшись, до времени скинула мертвое дитя. После она долго болела, потом родила единственного их сына, а вскоре, подавая на арбу тяжеленные снопы, надорвалась, полгода прожила в больнице и умерла.
«Пойду на кладбище, попрощаюсь с ней, может, она простит меня за все», — подумал дед Левон. Опираясь на палку, кряхтя и всхлипывая, он поднялся с коленей, постоял немного, отворачиваясь от ветра, и осторожно пошел вниз, к ледяному пруду.
Кладбище было совсем близко, за прудом. Огороженное заснеженным плетнем, оно неясно чернело на вершине соседнего холма. По присыпанной снегом ледяной глади пруда дед Левон шел, не поднимая ног. Стоптанные подошвы тяжелых валенок скользили по льду, согнутые дедовы ноги дрожали…
Дед Левон уже давно не выходил со двора. Он не знал, что перед рождеством его сосед Аким Турчак железным ломом продолбил во льду замерзшего пруда прорубь. Прорубь была небольшая, шириной чуть больше аршина. По субботам бабы выходили к проруби полоскать белье, а по воскресеньям, прихватив самодельные удочки, прорубь окружали огнищанские ребятишки. В эту морозную метельную ночь густой снег замел натоптанные тропы и следы вокруг проруби, она лишь смутно угадывалась на снежной равнине.
Повернувшись спиной к ветру, дед Левон шел боком, еле волоча ноги, и вдруг провалился в обжигающую холодом мглистую бездну. Он вскрикнул от ужаса, раскинул руки, стал судорожно скрести скользкий лед, пытаясь выбраться из проруби. Он долго кричал, но его хриплый старческий голос тонул в сумасшедшем шуме ветра, а слабое, немощное, внезапно отяжелевшее тело не слушалось рук. Ветер гудел, завывал по-волчьи, нес тучи снега, вокруг бесновалась белесая мгла.
Дед Левон начал терять сознание. Он хотел сложить на груди руки, чтобы опуститься в воду, под лед, и разом закончить мучения, но руки его одеревенели, стали застывать, и он уже не мог пошевелить ими. Только седая голова его все ниже клонилась к мокрой от хлюпающей воды кромке льда. Он все еще кричал, хрипя и плача, но уже не слышал своего угасающего последнего крика.
Потом ему сразу стало тепло. Он перестал плакать, в изнеможении уперся бородой в лед и закрыл глаза. И уже не дикий вой ветра послышался ему, а тихая, неземная, прекрасная музыка. Он понял, что это его свадьба, потому что рядом с ним, склонив голову в белой фате, стояла его молодая красивая жена. С другой стороны почему-то стоял единственный его сын, а вокруг ласково улыбались соседи, которые давно умерли, все молодые и красивые, такие, какими они были семьдесят лет назад. Близкие его сердцу люди, осиянные теплым божественным светом, пели радостную тихую песню, и душа его, разрываясь от ослепительного невыносимого счастья, тоже пела и плакала в сладком умилении, дождавшись наконец того, чего он всю свою долгую жизнь ждал, но так и не смог дождаться на этой трудной, печальной земле…
Тимофей Шелюгин нашел пропавшего отца утром. Раскинутые руки и борода деда Левона вмерзли в лед. Голова была наклонена вниз, покрытые инеем волосы розовели при свете холодной зимней зари, и был он похож на уходящее под землю распятие. Вокруг мертвого деда подрубили лед, вытащили его окаменевшее тело из проруби и похоронили на засыпанном снегом кладбище, рядом с могилой жены…
В эту же ночь едва не погибли еще двое огнищан: подлежащий раскулачиванию и ссылке Антон Терпужный и председатель сельсовета Илья Длугач.
Терпужный знал о том, что завтра у него отберут дом, коней и скот, все, что он нажил за полвека, а его с женой и дочкой загонят куда-то в Сибирь. Ему об этом сказал его зять Степан Острецов. Правда, Острецов сказал, что дочку, Пашку, может, и не вышлют, потому что она замужем за ним, Острецовым, заслуженным буденновцем-конармейцем, секретарем сельсовета, полностью сочувствующим Советской власти, но это не утешало Антона Агаповича — к разгульной, заполошной дочке он относился с брезгливым равнодушием и даже в глаза называл ее лахудрой.
В полночь Терпужный начал пить. Он принес из каморы штоф самогона-первака, сел за стол и, угрюмо набычившись, с отвращением выпил полный стакан. Толстая Мануйловна с опухшим от слез рыхлым лицом с жалостью посмотрела на мужа, высморкалась и проговорила глухо:
— Чего ж будем делать, Агапович?
Тупо уставившись в пол, Терпужный сипло вздохнул:
— Насточертели вы мне все, гады проклятые…
Помолчав, он добавил:
— Неси сюда все, чего у нас есть из золота или же серебра.
Мануйловна засуетилась, раскидывая перины, хлопая крышкой украшенного латунью сундука, долго обшаривала божницу в углу. Перед мужем она положила несколько золотых царских пятерок, с полсотни серебряных рублей, три нательных креста, набор столовых и чайных ложек и отдельно самое дорогое, что было у Терпужных, — массивный золотой портсигар с бриллиантами и с короной князей Барминых, обменянный Терпужным в голодном двадцать первом году на три фунта сала и ведро ячменной муки.
Хмуро посапывая, Терпужный стащил с ног тяжелые, подшитые кожей валенки, уложил в них портсигар, кресты и пятерки, прикрыл войлочной стелькой и снова сунул ноги в валенки. Потом он залпом выпил второй стакан самогона, отодвинул от себя серебро и крикнул Мануйловне:
— Чего рот раззявила? Забирай все это, склади в торбу и хорони за пазухой, корова дурноголовая!
Опершись волосатой грудью о край стола, Антон Агапович обнял кулачищем граненый стакан с самогоном и долго сидел, покусывая вислые моржовые усы. Выпил самогон, поднялся, взял под лавкой долото и, недобро ухмыляясь, подошел к стоявшей у простенка фисгармонии. Сделанная немецкими мастерами, с инкрустациями по красному дереву и с эмалевыми медальонами, фисгармония в том же голодном году была обменяна Антоном Агаповичем на курицу и стакан соли.
Слегка пошатываясь, Терпужный подошел к фисгармонии, рывком открыл крышку и стал долотом выламывать клавиши. Костяные клавиши с легким стуком падали на пол.
Мануйловна всплеснула руками, попятилась испуганно: