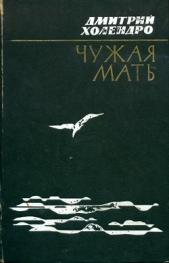Избранные произведения в 2 томах. Том 1

Избранные произведения в 2 томах. Том 1 читать книгу онлайн
Имя Дмитрия Михайловича Холендро, автора многочисленных повестей и рассказов, хорошо известно советскому и зарубежному читателю.
В первый том включены произведения о Великой Отечественной воине, дорогами которой прошел наводчик орудия младший сержант Дмитрий Холендро, впоследствии фронтовой корреспондент армейской газеты. Это повести «Яблоки сорок первого года» (по которой снят одноименный фильм), «Пушка», «Плавни» и рассказы «Вечер любви», «За подвигом» и др. Все они посвящены мужеству советского солдата, всю Европу заслонившего своею грудью от немецкого фашизма, ежедневно на войне решавшего проблему выбора между правом жить и долгом пожертвовать своею жизнью ради спасения Родины.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она опустилась на промятый диванчик и, скинув туфли, нащупала и выдернула из-под него тапочки, чтобы идти быстрее. А он стал воображать и рассчитывать… Вот она промахнула две полутемные улицы поселка. Их было всего-навсего две, и одна перетекала в дорогу, задевавшую край соснового бора. Потом был мостик, в самом низу, над ручьем, который и весной показывает дно — такой тощий. Хуже Сержика. Дальше дорога забирала вверх мимо огородных участков рабочих картонажной фабрики, долго ползла к шоссе, все круче и круче, и здесь, пожалуй, Света догонит суженого с дружком… Если она бегом, то уже… Что там происходит?
Он попытался вообразить это, но не смог…
А Света сократила путь по овражной тропе и, задыхаясь, почти вышла из кустов, но остановилась, то ли воздуха не хватило в груди, то ли слов, чтобы окликнуть. Сержик все время дергал носом, рассопливелся, и она услышала, как Федя спросил:
— Да перестанешь ты шмыгать? Или платочек дать? Надоело!
Тот замедлил шаг, шмыгнул еще раз и сказал:
— Вернись.
— Зачем?
— Света плакала, когда мы уходили… Я слышал…
— Это полезно, когда жена плачет.
— Для чего?
— Чтобы шелковая была.
— Все рассчитываешь, как электросчетчик?
— Ага. Сама прибежит. Иду в пари? Не сегодня, так завтра и прибежит, а я пока отдохну от этой кокарды.
— Давай пойдем назад, Федь, а?
— Могу вернуться только за розами.
— Денег жалко?
— Нет, Пузо, усилий! С утра гонял на рынок, к абрекам… Ты же знаешь — напрасные усилия — не мое дело.
— Да ты хоть слово скажи про Свету! «Я», «мое»… Что будет, если она возьмет и не прибежит?
— Я реалист. Сообража? Возможны варианты. Не прибежит? Пускай!
— Сообража, — ответил Сержик и остановился. — Ты — падла.
Он едва выдавил из себя это слово, и Света видела, как Федя прислонил ладонь к уху.
— Что, что?
— Пад-ла! — повторил его дружок.
— За что же ты меня так? — простодушно взмолился Федя.
— За все! — крикнул Сержик и тут же получил удар в зубы.
Света чуть не бросилась из кустов на выручку, но лишь вздрогнула, испугалась, а Федя сочувственно спросил:
— Дождался?
— Тьфу! — сплюнул Сержик. — Это я на тебя плюю! И еще получил удар, после чего пришлось сплюнуть зуб.
— Учись жить, — посоветовал Федя.
— А я чего делаю? Учусь…
И еще был смех, тонкий и меленький. Смеялся Федя, уходя, а Сержик плелся за ним, отплевываясь…
А Виктор Степанович сидел, откинув голову. Снова было тоскливо и одиноко, как и раньше, да не с такой силой. А сейчас — до пустоты! И держала пугающая пустота так цепко, что из нее, казалось, уже не вырваться. Чем она держала? Безрукая, бессловесная, бесчувственная…
И вот как странно! Чтобы отделаться от этого тяжелого ощущения, полного немыслимой покинутости, и не просто печали, а боли, без всякого воображения ощутимой в душе, он стал вспоминать войну. Да, из этих благостных, из этих чудесных дней мирной жизни его отшвырнуло в то уже далекое время, которое пролегло поперек юности гремящей полосой и постоянной угрозой расправиться с тобой. Все это не забывалось, но сознание хитро не давало событиям никаких общих оценок, оно рисовало, как ты лежал на дне оврага, может быть, последним взглядом прощаясь с голубым небом и белым облаком, откупающимся от ветра потерянными курчавинами, а по склону с разных сторон к тебе бежали знакомые и незнакомые, чтобы спасти. Как водитель полуторки в считанные минуты, оставшиеся в твоем владении, спешил домчаться до госпиталя, но внезапно притормаживал и каждым колесом по очереди переползал через ухабы… Как хирург без промедления надевал халат с пятнами вчерашней или позавчерашней крови, которую ни выкипятить, ни выстирать, и еще находил миг для полушутки: «Гляди-ка! Овраг спас! А то отшибло бы все нутро, начиная с сердца!»
Нет, не овраг, а друзья. Не было вокруг чужих…
Он подумал об этом и очнулся, потому что услышал, как гулко, в самые уши, бьет сердце. Еще чего не хватало! Сердце в ушах — это новость. Даже и себя спрашивать не хочется, что это такое… Он глянул на часы. Вот-вот дочь должна вернуться. «Встать, рядовой такой-то!» Он нащупал под стулом снятые из-за ноги ботинки, натянул их и вышел, чтобы встретить гостей и все начать сначала.
Дочь сидела на крыльце, подперев обоими кулаками подбородок.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он.
— Сижу, — улыбнулась Света.
1980
Ждать — не дождаться
Был вечер, тихий и какой-то старый-старый, будто вокруг всегда было так: тоненький месяц бескровно прорезывался в сером небе, как неживая и потому неизменная деталь декорации, над той вон сиротливой, откинутой от села избушкой неподвижной палкой торчал дымок, и три тени от берез густо синели у бывших церковных ворот, оставивших на земле лишь кирпичные стояки, крытые штукатуркой. Кое-где штукатурка, потрескавшись, обвалилась, и ржаво краснеющий кирпич издали казался цветными заплатками на этих дырах.
Березы растолстели за долгую жизнь и коряво изгибались под грузом лет, а тени их отползали от электрической лампочки, которую рано зажигали на столбе, чтобы не забыть. Лампочка освещала дорогу в село, а не церковь.
Игнату помнилось, что когда-то у дороги шепталась белая роща, здесь, в этой роще, он давно, до школы еще, нашел свой первый подберезовик. В безнадежном предвидении, что скоро сюда пожалует город и съест и само село, и рощу, пошли рубить березы на плёвые сарайчики, на ограды, на дрова, пока не свели все до единой, кроме этой прицерковной троицы.
А город остановился. Вместо градостроительства взялась за свое война. И село доныне еще жило на своем месте, только рощи не было. Словно бы от обиды на людей, березы больше не росли здесь, среди пней, облепленных, бывало, опятами. С годами как-то незаметно и пни поисчезали, сгнили, разветрились. Да чего — незаметно, когда ему, Игнату, уже перевалило за сорок. Незаметно проходит жизнь…
Он впервые сделал такое открытие сейчас, когда появилось время подумать о многом, и усмехнулся, прячась от испуга. Не что-то ведь проходило, а жизнь! Сидел на старом валуне, веками заставлявшем узкую тропу в траве огибать эту достопримечательность, и делал открытия, изводя одну сигарету за другой…
Время у Игната появилось, потому что его уволили с работы. Сразу он даже и не сомневался — позовут назад, наказание оценивал исключительно как моральное. Клава заставляла пойти к начальству, потолковать, выдать ребят, из-за которых его уволили. Буквально заливалась слезами. А он соглашался с ней, пока слушал, но потом вдруг решал: нет. Не пойдет. Он прикрыл молодых ребят, почти молча вынес все расспросы и разговоры, так что же, для того чтобы теперь завалить Володьку и Петю, которым верил? Они клялись, что все вышло без умысла, нечаянно, и стучали себя в грудь кулаками как шальные, а он помнил: месяца не прошло, как у Володьки родился сын, а Петя вот-вот на свадьбу позовет. Его, Игната, бригадира, безмолвно взявшего на себя чужую вину, только уволили, все же посчитались с ним, а их могли и под суд отдать.
Целый месяц он ждал — вернут на каменную стену новостройки. В отпуск, полученный при увольнении — хоть что-то дали за хорошую работу, правда, без путевки на этот раз, — никуда не поехал. Из-за того, что ждал. Но так и не позвали. А он все ждал, пока не понял: ждать — не дождаться! Теперь он уже не ждал, но все же и на другую работу не спешил устраиваться. Больше недели жил тунеядцем…
Жил Игнат не в этом селе, а по соседству, в деревеньке, тоже под боком у города. В первые дни после внезапного увольнения прятался дома, стыдился людских вопросов, а в последние, наоборот, выходил во двор, прилипал к плетню, часами маячил в одной точке, а то и выбредал на улицу, усаживался на скамейке, отполированной разными задами, надеялся, что кто-нибудь из знакомых — а тут все подряд знакомые — присядет рядом, закурит, сам спросит, тебе ответит. И получится разговор. Но люди на глазах проходили мимо, даже пробегали, у них не было времени. Ни у кого.