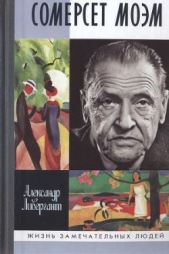Ожидание (сборник)

Ожидание (сборник) читать книгу онлайн
В книгу «Ожидание» вошли наиболее известные произведения В.Амлинского, посвященные нашим современникам — их жизни со сложными проблемами любви, товарищества, отношения к труду и ответственностью перед обществом: романы "Возвращение брата", "Нескучный сад" и "Борька Никитин".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потом, через много лет, он признался, что ему понравилось, что он даже не ожидал, что я так смогу. И еще в тот вечер он и сам решил ее нарисовать. Когда-нибудь попозже.
Вот так, попозже, он и сделал этот рисунок, что висит на стене. Чем она была занята в тот момент, когда он ее рисовал? Ведь не просто же позировала, у нее уже было много дел, забот. Там, в другой ее жизни, мне неизвестной… Может быть, она склонилась над шитьем? Хотя глаза не опущены, а только едва потуплены.
Преддипломную практику мы проходили в целинных совхозах Акмолинской, ныне Целиноградской области. Не только рисунком занимались. Достраивали, оформляли Дом молодежи, столярничали, плотничали, старались сделать его праздничным, не похожим на стандартные клубы.
Борька даже придумал проект совхозной пивной, именно пивной, он хотел придать этому слову иной смысл: своего рода место встреч, сельский паб, а не какая-то забегаловка. Все там должно было быть простым, скромным, опрятным, столы и табуреты из неотесанного дерева (тогда это не стало еще повсеместной модой). Идея Борькина понравилась нашим руководителям, те рассказали о ней в районе, она обсуждалась всерьез и в серьезных инстанциях. И дело прогресса победило. Проект в принципе приняли, правда, под названием «Сельское молодежное кафе»… Так Борька проявил и свой дар художника-оформителя.
Надо сказать, что это не была дежурная практика. На этот раз руководителем был наш Мастер, мы вместе работали. И не только работали. Он помогал понять, почувствовать живой, на глазах меняющийся облик земли, иногда противящейся преображению, но все же неумолимо обновляющейся.
Так разнообразно и не похоже было здесь все на прежде виденное: прижимистые, крепкие, обособленные домишки старого Акмолинска, а рядом разрытая земля, сплошные улицы серых, как мыши, палаток, улицы фундаментов, а затем, через год, новые здесь и кажущиеся огромными посреди ровной сплошной степи сверкающие на солнце здания из стекла, бетона, металла.
Уже к концу практики получил телеграмму из Москвы. Телеграмма коротенькая, буквально три слова: «Я в Москве. Нора». И в конце, как награда, ни разу не употребленное ею в письмах: «Целую».
Я стал советоваться с друзьями. Сашка мне сказал: «Поезжай, мы тебя прикроем как-нибудь. Все-таки телеграмма, может, что дома случилось». А Борька, присутствующий при этом, посоветовал: «Подожди немного, где-нибудь за недельку до конца уедешь, иначе подведешь Мастера».
Причина для немедленного отъезда была веская — любовь, но Борька был прав: едва ли меня правильно поймут некоторые товарищи. Атмосфера была такова, что возвращение с целины, даже вынужденное, воспринималось как дезертирство. Чем-то оно действительно напоминало дезертирство с фронта.
И потому я был со всеми до конца, до последнего звонка. И меня встречали так же, как и всех: музыкой на вокзале, громкими маршами, объятиями и крепкими рукопожатиями.
Мое возвращение в Москву совпало с моим днем рождения. Я позвонил ей и попросил прийти пораньше, до прихода друзей. А уж потом, когда они придут, мы будем веселиться все вместе. В конце концов все старые счеты уже закрыты.
И вот я в своей комнате, от которой уже отвык за три месяца, она кажется более тесной, как всегда, когда возвращаешься с далеких просторов; да и все более тесное, уменьшившееся: дворик, трехэтажный домик постпредства, скверик, сверкающий осенней медью, облетевшие голые тополя.
Я сходил в магазин на Кировской, где всегда была хорошая ветчина, розовая, прохладная колбаса с аккуратными полянками жира. Купил несколько бутылок желто-лимонной старки и ждал, ждал ее.
В комнате прибрано, скромная, но вкусная снедь сияет на столе между бутылок, каждый звук, каждый шорох кажется мне звонком, я все время вскакиваю, попутно смотрю на себя в зеркало и на этот раз даже нравлюсь себе: аккуратная, приятно уменьшившаяся после стрижки голова, красноватый целинный загар на гладко выбритых щеках… Ничего, кажется, все в порядке. Таким не стыдно предстать перед ней.
А ее все нет. Я постепенно начинаю нервничать, жалею, что затеял этот день рождения, лучше бы просто встретился с ней один на один.
Достаю ее портрет. Смотрю на него, будто не я писал. Мне хочется показать его ей, но я еще не знаю, не решил…
Выражение молодого самодовольства, с которым я гляделся в зеркало, слетает, когда я смотрю на свою работу. Я уже давно ее не видел, стояла за шкафом завернутая в простыню, а сейчас, перед ее приходом, зачем-то достал. При еще ярком солнечном свете цвета показались слишком форсированными. В сумраке ее лицо должно было бы светиться, но сейчас оно слишком торжественно блестело, а глаза показались традиционно иконописными и чересчур напряженными.
Пожалуй, наклон головы, поворот, неожиданность ракурса — все это, если не придираться, было неплохо, но все равно оказалось много ниже того, что я ожидал увидеть. И подогревая свое разочарование, расширяя ту вначале небольшую трещинку между замыслом и воплощением, я произнес самое для меня противное слово, которое мог бы услышать из чужих уст: «Мило, довольно милая работа». Порвать, порезать, сжечь! Но нет, я не чувствовал той решимости и того самоотвержения, великим было легче, они легче резали, легче сжигали, потому что, наверное, и делали легче, они были гениальнее, они и не так пыхтели, не так упрямствовали, потому и не так дорожили своими опусами.
Конечно, все это было еще и оттого, что она не шла. Не так уж плох был портрет… Конечно, он не закончен. Еще работать и работать, но, оценивая трезво, я предощущал будущую удачу… Но сейчас меня злили ее опоздание, нервность моего ожидания, неуверенность в ней, а потому злил и портрет. А как я все благостно представлял себе: вот она придет, мы прильнем друг к другу, скажем какие-то слова, а может, и слов никаких, и вот я достану и покажу ей то, над чем бился почти год.
Я бросил портрет на диван; показалось, что треснула рамка, которую я специально выстругивал, сбивал, чтобы она увидела все как полагалось, не голый холст, а портрет.
Бросил, и тут же стало жалко портрета, жалко своей работы.
В этот момент — звонок.
Нарочито охлаждая себя, замедленно, как бы нехотя, уже заранее решив, что это не она, небрежно и независимо посвистывая, иду открывать.
В проеме приоткрытой двери — она. В красном коротком платье, загорелые великолепные ноги в красных же босоножках, а уж потом только, подняв глаза, вижу ее лицо.
Оно сдержанно сияет — повзрослевшее, загорелое, не родное и привычное, как тогда, а новое и слишком красивое — слишком красивое для этого тусклого коридора с пыльными шкафами, для этих прикрытых дверей, для утлого коммунального быта, для меня, для моего жалкого портрета. Я чувствую какую-то странную робость перед ней, перед ее новизной, перед женской завершенностью, зрелой нарядностью ее одеяния. Я осторожно держу ее за руку, пытаюсь вести за собой, но она идет сама, свободно, не стесняясь, совсем не скрывая того, что хорошо помнит дорогу.
Она уверенно открывает дверь, входит в просторную комнату, вдруг ставшую заскорузлой каморкой, какой-то кургузой, плохонькой рамкой для ее торжествующего лица.
Она прохаживается по комнате, смотрит в широко открытое окно (как она тогда смотрела, босоногая, худенькая, почему-то жалкая и такая близкая мне), она садится на диван, и опять я вижу ее колени, тоже совершенно отчужденные от меня, — элемент завершенной женской формы, мне уже не принадлежащей, — и, повернувшись, обращает свой взор на валяющийся рядом с ней на диване портретик с действительно треснувшей в одном месте рамкой.
Она смотрит на него, а потом на меня с удивлением:
— Это я?
— Нет. Это Н. П. Жданович.
— Какая еще Жданович?
— Обыкновенная Жданович. Надежда Павловна, скажем. Ничего бабка?
Она несколько теряется и говорит:
— Очень даже ничего. Я почему-то подумала, что это я. Вот дура.