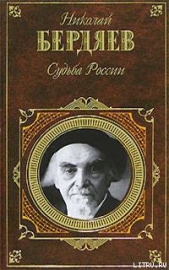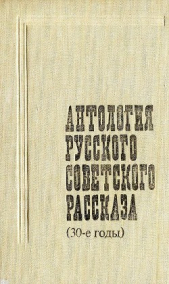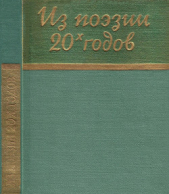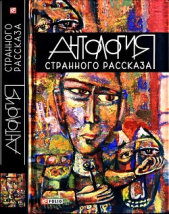Антология русского советского рассказа (40-е годы)
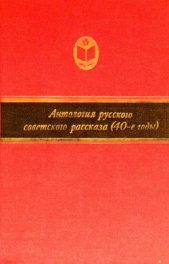
Антология русского советского рассказа (40-е годы) читать книгу онлайн
В сборник вошли лучшие рассказы 40-х годов наиболее известных советских писателей: М. Шолохова, А. Толстого, К. Федина, А. Платонова, Б. Полевого и других.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот мы и решили: раз на наши плечи свалилась вся тягота, надо душу, как костер, зажечь. Напомнила всем слова Макси: тот дюж, кто горит за сто душ. Малашу я замещать себя поставила. А когда она почувствовала свою ответственность, так словно бы заново родилась. Оно завсегда так бывает: настоящая-то ответственность для честного человека — всенародное испытание: она под удар его ставит и до гордости честь его возносит. Поставили мы вопрос: надо ли нам из города людей требовать? Справимся ли мы своими силами? И без прениев решили: не надо. Не успели, мол, хозяйство в свои руки взять, а уж «караул» закричали. Павел Петрович усмехался и головой качал: смотрите, мол, не очень-то на себя надейтесь, как бы впросак не попасть… Малаша первая голос подала:
— Пустые мы будем балаболки, ежели городских звать будем. Да нас весь народ на смех поднимет. Стариков, старух, подростков собьем…
Как пошла по деревне из избы в избу, как начала по сердцу, по совести стегать — боже мой! — все от мала до велика валом повалили. И никого-то с глаз своих не спускает. Видит, что кто-то из барахольщиц турусы на колесах разводит, тут она как из-под земли:
— Ты что же это, матушка, зерно-то свое сквозь пальцы пропускаешь? Другие, милая, подберут, не побрезгают. Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Гляди, как бы не наревелась после времени: пенять будет не на кого…
Твердую линию взяла: ни себе, ни другим никакого снисхождения не допускала. Старички-то наши, правленцы бывшие, а особенно плотник да кузнец в ремонтной мастерской, оба такие же седые да чванные, так возгордились, такими себя заслуженными да незаменимыми считали, что в обычай себе взяли погуливать и тайком самогонишко гнать. Один раз прогуляли два дня, другой раз — три дня, а когда учитывать их стали, потребовали прогулы их оплачивать. Конечное дело, отказали им, а они возьми да сразу на четыре дня забастовали: пускай других на наше место поищут, — мастеров-то нет, без нас завоют бабенки-то… А бывшие правленцы — дед Митрий и Нефед-цифролюб — попривыкли распоряжаться, к трудной работе не способны, подчиниться бабам не хочется — зазорно. Тут Малаша-то и показала себя. Врывается в мастерскую — никого, бежит по домам — никого. Пробегает мимо пожарного сарая, видит: сидят там наши старички и самогончик распивают, в шашки дуются. Без всякой опаски вихрем она туда влетает и кричит:
— Ах, вы, — говорит, — бездельники! Ах, дармоеды! Да я, — говорит, — ни одного часа в своей черной жизни без труда да без забот не провела, а вы привыкли только на бабьих плечах ездить… Вот как вы здесь горячее время проводите! Самогон глохтаете да в нужники играете!..
Стали было они перед людьми бунтовать и Малашу охалить, а их первых же на смех подняли. Да и себе все на носу зарубили: с ней шуток не шути, и себе — убыток и на все село — бесславье.
Так мы и лето закончили, так и осень начали: уборку хлеба, по правде сказать, малость затянули, а план все ж таки выполнили. Зато вспахали да посеяли вовремя, хоть эмтеэс тракторами нас очень даже не побаловала: больше на лошадках и даже на коровках вспашку проводили.
Старики и старушки да разные там обозленные ябедники вслух каркали:
— От шабра не жди добра, а от баб — только одни блохи, да и те плохи. Разве можно без мужика хозяйство вести? А сейчас, когда земля-то не в личных интересах, без мужика да старика все вразлад пойдет. Где это видано, чтобы бабенки распоряжались! Они как куры: переклюются и разбредутся в разные стороны. Дай срок, и лядащему петуху будут рады.
Эти сплетни да пересуды нас не дюже расстраивали: пускай дуботолки языки почешут. Боялись-то мы больше смуты да подпольщины. А после расправы Малаши пошла все-таки подозрительная канитель. Начали нам пакости делать. Утречком, как только придешь в правление, и на крыльцо нельзя подняться; какая-то шваль все ступеньки обгадит.
Потолковали мы с Варей да Малашей об этих ночных происшествиях, посмеялись и плюнули: уймутся злыдни!
Ну, мой рассказ к концу подходит.
Зимой вызывают меня с Павлом Петровичем в район. Секретарь еще издали засмеялся и сам из-за стола навстречу нам вышел:
— А-а, вот она, наша Маша из Заполья!
Поздоровался и около себя посадил.
— Ну, — говорит, — Маша, спасибо: работала ты не в пример хорошо. Скажи, чем тебя обрадовать?
— А вы, — говорю, — и так меня обрадовали.
— Это чем же, — говорит, — я тебя обрадовал?
— А лаской да приветом.
— Ну, — говорит, — из этого шубы не сошьешь. — И смеется. — Тебе, — говорит, — лично должен я вручить Почетную грамоту обкома партии да отрез крепдешина. Сшей себе роскошное платье и носи.
— Вы, — говорю, — так меня ужасно взволновали, что я даже с сердцем не совладаю. Зачем, — говорю, — мне ваш крепдешин-то? В нашей работе не до крепдешину. Вот уж лучше этот крепдешин какой-нибудь наградой замените для наших активных женщин — для Малаши, для Вари… да вот, мол, и Павла Петровича нашего не забудьте.
— Да ты, — говорит, — о них не беспокойся: о них уже побеспокоились.
И все радуется, все смеется да с Павлом Петровичем перемигивается. Заметила я это и на Павла Петровича:
— Да ты-то, Павел Петрович, знал, что ли, об этом?
— А как же, — говорит, — доподлинно знал.
— Так почему же ты мне-то не сказал?
— Потому, — говорит, — что дорого яичко к светлому дню. Тем-то и подарок дорог, что он нежданный-негаданный.
И вот в это-то время я вдруг и ослабла. Терпела, терпела, да в один день и подкосило меня. Варя-то от Терентия нет-нет да и получит весточку. И Анфиса тоже. Даже мужнишко Малашин кой-что ей нацарапает. Терентий с первых дней с Максей разлучился и сам в письмах просил прислать ему номер полевой его почты. А от Макси давным-то давно — ни единой строчки. Стала я нервничать: сердце кипело, кровью обливалось. Получит Варя письмо, прибежит, счастливая, разговорчивая, читает — захлебывается, а мне это ее письмо — нож острый. Не выдержала я однажды и разрыдалась. Варя испугалась даже, захлопотала около меня, а я и свету не вижу. И так я затосковала, что сама не своя стала. Одна меня дума гложет: нет моего Макси, убили моего Максю, не увижу я его больше никогда. Побежала я к Павлу Петровичу, упала перед ним на стол и навзрыд плачу, а он, как отец, гладит меня по голове и журит:
— Нельзя так распускать себя, Маша: ты общественная работница, ты сила. Ты должна пример крепости показывать: ведь по тебе все равняются. Что же будет, ежели ты слабость души покажешь? В том-то, — говорит, — и сила наша, что мы в лихую годину духом непреклонны и твердо шагаем через личное наше горе. Не забывай, — говорит, — что враг-то здорово расчеты свои строит на нашей растерянности. Так еще ничего не известно. Может, Максиму-то и писать-то тебе нельзя. Подумала ты над этим?
Все же начал Павел Петрович справки наводить, а к Новому году извещение пришло: Макся в строю не числится, среди убитых нет, и где он, неизвестно: пропал без вести. Сказал мне об этом Павел Петрович и так закончил!
— Тут только может быть такой ответ, Маша: или он — в плену, или в окружении, или у партизан. Надо не убиваться, а ждать.
Не помню уж, как я до дому добралась, не помню, что со мной было. Когда немножко прояснилось у меня в голове, вижу — рядом со мной у кровати сидит Дунярка и на голову мне полотенце кладет. И бледненькая, глаза большие. Заметила, что я в себя пришла, бросилась ко мне на грудь, засмеялась, заплакала.
— Маманя, маманя моя! Как я испугалась-то!.. Уж я думала, что ты умирать собралась… Да разве это можно!.. А как бы я без тебя жить-то стала?.. Папаня вернется да спросит: как же это так?..
Прижала я к себе Дунярку и заплакала:
— Как же нам, Дунюшка, быть-то? Папаня-то наш пропал… без вести… Может, злодеи его истерзали, а может, в плену — под палками, под прикладами…
А она этак исподлобья глядит на меня, а слезы-то на щеках, как горошины. Да вдруг крикнет, как большая:
— Ну, чего это ты, мамка! Да разве папаня-то в руки злодеям дастся? Да в жизнь этого не будет!