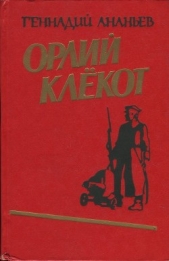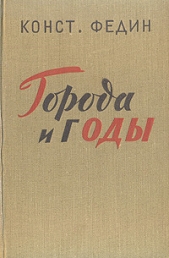Города и годы. Братья
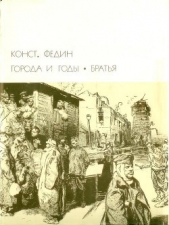
Города и годы. Братья читать книгу онлайн
Два первых романа Константина Федина — «Города и годы», «Братья» увидели свет в 20-е годы XX столетия, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.
Вступительная статья М. Кузнецова, примечания А. Старкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потому что в тот момент, когда, выпуская легость, он разжал пальцы, сверху озорно упал на него насмешливый грудной голос:
— А вот и не докинуть!
И уже по тому, как распускались в воздухе кольца бечевы, летевшей к пристани, Родион понял, что у него дрогнула рука. Легость, не долетев, ударилась концом о деревянный борт пристани и плюхнулась в воду.
На палубе перекатывался дразнящий веселый хохот.
Родион быстро взял запасную легость и с злобой пустил ее на пристань, так что конец перелетел через крышу конторки и загромыхал по железу.
Потом он закрепил другой конец на чалке, скинул ее за борт и стал выбирать из воды недокинутую легость. Он больше не глядел на палубу.
Но едва пассажиры схлынули с пристани, его позвали к сходням. Там он увидел поджарого бородатого человека в летнем картузике, с каким-то постным, словно с иконы, лицом. Поодаль почтительно стоял пристанный агент, и вокруг увивались боцмана. Иконописный человек молчаливо смотрел в сторонку.
— Бери, неси! — командовали боцмана, раздавая матросам чемоданы, корзинки, узлы.
Багажа было много, и добрая полдюжина матросов понесла его на берег.
Возвращаясь, Родион встретил девушку, которая смеялась над ним с палубы. Она шла рядом с бородатой иконой. Родион отвел глаза.
Но на пристани он остановился и вместе с другими матросами стал смотреть, как отъезжали извозчики, нагруженные багажом. На последнюю пролетку села икона и рядом с ней — девушка.
Когда извозчик тронул, девушка обернулась, быстро нашла глазами среди матросов Родиона, весело поклонилась ему, и он опять заметил, как сверкнули ее зубы, и — заодно с матросами — пустил ей вдогонку два-три напутственных словца.
Он узнал потом от боцманов, что бородатый человек с иконой был уральский купец Михайло Шерстобитов, и упомнил эту фамилию, потому что она показалась ему забавной.
И он не мог позабыть, как высмеяла его девушка, ни ее мягкого, глубокого, почти женского голоса, ни ее точеной полосы зубов. И он думал, что волнующая, беспокойная боль, какую оставила она в нем, — не что иное, как жестокая обида. Как смела чужая эта девчонка потешаться над ним, в то время как ему не позволено было даже смотреть на господ пассажиров первого класса? Как смела?..
…Родион вздрогнул и скинул с себя давящую тупую полудремоту.
Вокруг него что-то произошло. Темнота разжижалась серым рассветом. Рассвет стекал на пол с маленького оконца, которое было больше в ширину, чем в вышину, как будто раму перевернули и положили на бок. Родион, не вставая, долго смотрел на свет: тонкие звенья решетки снаружи окна были видны уже с большой отчетливостью.
Человек, лежавший против Родиона, завозился, скинул с себя кучу одежи и встал. Выпрямившись и расправив руки, он занял страшно много места — так нескладно громоздок и высок он был.
Несколько минут подряд он молча всматривался в Родиона. Потом шагнул к нему и проговорил убежденно:
— Малец, я тебя знаю.
Он усмехнулся и покачал головой.
— Что же молчишь? Я тебя знаю прочно, по рабочей дружине.
Родион привскочил.
Тот самый Петр, слесарь Петр, о котором давеча спрашивал Никита! (И — опять, опять лезет в голову Никита!) Слесарь Петр стоял перед ним.
— Ты будто не спал? — спросил Петр. — Признаешь? Помнишь?
— Послушай, — прошептал Родион, — послушай, ты! Значит — все кончилось?!
Он схватился обеими руками за тяжелый, острый локоть Петра и глядел на него, не мигая.
Это были первые слова Родиона, которые он выговорил с тех пор, как с пеклеванным хлебом вышел из лавчонки.
— Кончилось? — переспросил Петр и ухмыльнулся. — Эка ты, малец! Для тебя только что начинается.
Он помолчал, присел на койку и, усадив рядом с собой Родиона, сказал с уверенностью:
— Пошел теперь гулять по острогам.
Глава третья
Варя, Варенька, Варварушка, — с засученными по локотки рукавчиками, Варюшенька, Варечка — в шелковом платьице, в лисьей душегрейке!
Только бы и любоваться тобою приказчичьей родне, угождать твоему нраву шерстобитовским приживалочкам, смотреть не насмотреться на тебя купеческой дворне! А уж мамаша-то не нарадуется, что ни слово, то — золотко, что ни вздох, то — любушка, красота, свет души Варварушка, Варя, Варенька, Варюшечка!..
Осенью, на воздвиженье, накупают Шерстобитовы зимних припасов-запасов, и задолго до праздника Шерстобитиха уговаривает всяких тетушек-бабушек:
— Так не запамятуй, милая, на капусту прийти на здвиженье. Да с тяпкой, не позабудь тяпку-то, тяпок-то не хватит. Да ты не запамятуй!
Где тут запамятовать! Не успела отойти ранняя обедня, как к Шерстобитовым тянутся бабьи полчища: всякие Настеньки да Сашеньки, Ивановны, Селиверстовны, кособокие, кривые, с горбами да грыжами, в темных кацавейках, юбки — в крапинку, платки — в каемочку, что ни божье лицо — то рыло, одна другой краше, как на подбор.
Шерстобитовские ворота настежь. День не торговый — один базар шумит на площади, — но в ворота вкатываются воз за возом, полные, умятые, набитые добром.
И все вокруг набивается, ломится, трещит и поскрипывает — кадки, кадушки, жбаны, корыта, погреба, чуланчики. И весь двор кишит пестрядью, расцвеченный, размалеванный — красный, лиловый, зеленый: теснятся, цепляются колесами друг за друга возики, возы, возищи с морковью, свеклой, петрушкой, и — как сапоги по снегу — хрустят в руках кочаны капусты.
Здвиженье, плодоносное солнышко, останный денек бабьего лета, терпкий капустный праздник!
Эк ведь ловко летят кочаны из телег в бабьи фартуки, ишь растут, наворачиваются у корыт лиственные зеленые вороха, скрипят, похрястывают бойкие тяпки по обчищенным белым вилочкам, и, словно у хороших дровоколов — поленья, сыплются наземь гладенькие кочерыжки.
Распутались, опростались возы, покончили с морковью и свеклою, разложили все по кучам, по бунтам, по щепоткам, замкнули ворота на все болты, засовы, щеколдочки и начали, благословясь, капустное действо.
Сашеньки и Селиверстовны выстроились рядами вдоль корыт, засучили рукава, подвязавшись передниками. И пошли скрипеть тяпки по ядреному капустному листу, пошли барабанить в деревянные днища корыт, понеслась, побежала бегунами тяпочная дробь в натертое синькой небо.
Сладок дух вишневого листа, крепко горькое дыханье дуба, свербит в носу от молодого чеснока, туман и пряность в голове от укропа. Весь двор купается в огородной, садовой, лесной сентябрьской истоме: прячут на зиму в кадушки осенние ароматы.
А про капусту, про сахарный вилок, про зеленый кочан сколько натрещат бабьи языки всякой всячины!
…Варя, Варенька, Варварушка, с засученными по локотки рукавчиками, у корыта с капустой, — на плечах душегрейка, за спиной коса, в руке тяпка! И рука белая, как очищенный вилок, и кажется, возьми ее — как вилок крепко хрустнет на ладони гладкая, ровная кожа. Платье на Вареньке осеннее — желтое, точно кленовый лист, и душегрейка-безрукавочка тоже как осень — красной кожи на золоте лисьего меха.
Смеется Варенька, любо ей рубить душистые вилки в стоведерном корыте, хорошо слышать, как рассыпается и бежит в небо тяпочная веселая дробь, сладко покусывать крепкие, как сахар, кочерыжки, сущая потеха глядеть на старух да теток.
Что ни баба у Шерстобитовых, что ни приживалка — то сваха: косятся кривоглазые, слепые на купеческую дочку, — вот красота, вот писаная, вот удачливой свахе по гроб жизни обеспеченье!
Но потешается Варенька над свахиными стараньями, высмеивает бабок и теток, отваживает от дому женихов.
В кого уродилась шерстобитовская дочка — не разобрать толком. Не то чтобы она была капризна или нехороша характером, самовластна или кичлива, нет. Только с давних пор появилась в ней маленькая, впрочем, чувствительная для всего дома, черточка: вот вы живете по-своему, — как будто говорила Варенька, — на свой образец, по стариночке, и я ничего против вашей жизни не имею, даже сама иной раз поеду с папашей на Деркул, в мужской монастырь, или посижу за кассой в лавке, но только, пожалуйста, дайте и мне пожить, как моей душе захочется.