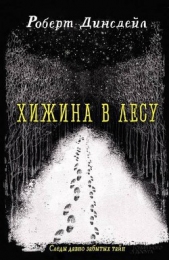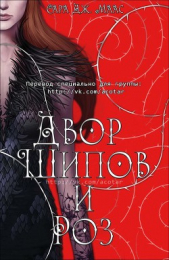В русском лесу

В русском лесу читать книгу онлайн
В книгу Ивана Елегечева вошли лучшие его рассказы о людях тайги, созданные за последние годы. Пишет он о людях Западной Сибири и Приобья с большой теплотой и любовью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Шик-ширык!» — трет деревянный брусок о брусок Магарыч и думает с сомнением: «А не напраслина ли в огонь деревянный — вера? Самородок золотой мне и без деревянного огня достался. И жена мне хорошая, Лизавета, досталась безо всякого деревянного огня. Счастье отца от деревянного огня, если разобраться, минутное. И скот был, и дом был, и достаток, а все прахом пошло. Так при чем же огонь? Зачем он, деревянный огонь?..»
Так думал, сомневаясь, Магарыч, но работать продолжал с усердием. «Шик-ширык!» — потрогает ладонью — теплая деревяшка, снова трет. Потрогает вдругорядь — горячая, снова трет, а зачем — сам себе пытается объяснить. Пусть смотрят люди, пусть говорят меж собой. Есть время — трет. Всем им, шахтерам, на смену надо — бурить камни, взрывать жилы динамитом, нагружать рудой вагонетки. И так каждый день, шесть часов в сутки. А Магарыч вольный золотничник, зачем ему шахта? Он самородок добыл, надолго теперь ему хватит денег, чтобы прожить. Время свое куда хочет, туда и девает. Хоть песни пой, хоть водку пей, хоть без дела, просто так шатайся по руднику, хоть деревяшку о деревяшку три — все едино, вольный он казак, сам себе хозяин.
«Шик-ширык!» — трет Магарыч дерево. Шахтеры с работы идут, усмехаются про себя: чего это он задумал? Вечер опускается, сумерки густеют, жена из дома кричит счастливым голосом: хватит чудить, Магарыч, домой пора! Но не перестает Магарыч, трет себе да трет, лицо по-прежнему веселое, довольное, будто делает он бог весть какое полезное дело.
Он прекратил работу почти в полной темноте, да и то потому, что удивился. По вечерней улице с песнями вдруг строй молодежи по четверо в ряд, в руках факела — дымно-красные огни, керосиновые, горят на палках, звонкие голоса отчетливо доносятся: если завтра война... «Ага, — думает Магарыч, — демонстрация, антифашистское движение...» Он прекратил работу, с камня встал, смотрит, как с факелами проходят молодые люди мимо. «А тот ли огонь-то в руках несете? — мысленно обратился он к факельному шествию. — Не тот огонь! Огонь — керосинный, бедовый! Не тот! Вы бы зажгли деревянный — он к счастью. Отец мой зря не скажет. Зря вы!..»
Ать-два! Ать-два! Направо, налево! — Магарыч идет в самой середине солдатского строя. На Магарыче зеленый бушлат, подпоясанный туго брезентовым ремнем. На голове у Магарыча ушанка, а сверх нее стальная каска. На ногах у Магарыча ботинки из свиной кожи, на голяшках обмотки суконные, ниже колен перетянутые тесемками. А на ремне, на правом плече — винтовочка со штыком. Ать-два, ать-два! Напра-о, нале-о! — идет Магарыч в строю, слева и справа от него солдаты-товарищи, впереди и позади тоже они, товарищи, в таких же обмотках и касках, с такими же винтовками на ремне. Снег под солдатскими ботинками поскрипывает, на штыках иней, шапки-ушанки заиндевелые, сквозь тонкий на вате бушлат тепло просачивается, спины белые, плевок на лету превращается в шарик — гремит. Сибирская стужа: недвижимый воздух, снег в сосновом бору, где идет учение, снег, по которому ходят строем солдаты, затвердел, что лед. Сосны окоченели, оцепенели на морозе; иные дерева от стужи трескаются повдоль. Но... ать-два, ать-два, напра-о, нале-о! — движется солдатский строй. И солдат, одетый кое-как, вынослив, и винтовочка трехлинейная, еще царского образца, не застывает, клацни затвором, нацелься — бабахнет, пуля полетит в цель и щелкнет, пробивая деревянную мишень. Солдат идет — посинелый, не падает, одной рукой ремень винтовочный придерживает, другой марширует и поет посинелым ртом: Красная армия всех сильней! Все поют, и Магарыч поет, вместе со всеми топчется на месте, ложится под команду «ложись!», ползет, если прикажут: «Ползи!», бежит, если велят бежать.
Учился воевать Магарыч — но ничем вроде не отличался от своих товарищей. Какие все, такой и он, только на лице его, кажется, никто никогда не замечал ни раздражения, ни недовольства, он, терпя лишения, казалось, внутренне был удовлетворен и, может быть, даже в силу возможности счастлив. Во всяком случае, он никому никогда не жаловался. Жалобы от товарищей выслушивал: тому жена не пишет, может, изменяет с другим; у того жена замуж вышла, — высказывал товарищам простые слова сочувствия, как мог, утешал. Любил услужить товарищу, письма для неграмотных писал под диктовку, читал им письма из дому. И сам часто писал своей Лизавете. «Как ты там одна горе мыкаешь без меня? Как здоровье? И здоров ли наш бычок-сынишка? Что до меня, Лизавета, я здоров, о нашем с тобой совместном счастье думаю и, как обнаружится досуг, тру брусок о брусок и надеюсь, когда-никогда зажгу деревянный огонь, про который мне говорил мой отец...»
И правда, чуть выдастся досуг от учений, Магарыч в укромном уголке казармы, заставленной многоярусными койками для солдатского сна, сидит и трет брусок о брусок, натирает, прикладывает к ладони, горячий ли, и ждет, когда наконец вспыхнет деревянный огонь. В живой работе незаметно проходит у Магарыча досуг, толково, с надеждой и верой в душе проводит он свободное время, с мечтой и лаской думает он о своей Лизавете, о сыне, маленьком парнишке...
«Тук-трак-ток», — стучат колеса; «ту-у, ту-у», — гудит паровоз, — везут Магарыча на Запад, на фронт. Позади Центральная Сибирь. Чуть потеплело, уже а воздухе летают, не падая на лету, сороки. Уже из теплушки можно высунуть нос на волю, не опасаясь, что он отмерзнет. И в самой теплушке не так зябко, даже можно снять новенький, для фронта, бушлатик и посидеть возле круглой печурки в одной гимнастерке, дав свободу телу. Быстро везут. Огни городов мелькают: Новосибирск, Омск, Челябинск. На вокзальных платформах бабы в полушалках, фуфайках и подшитых пимах продают картофельные драники и шаньги, и даже калачи. Вкусна картофельная еда, но дорогая — что ни драник, то сто пятьдесят рублей, что ни калач — то двести или даже триста. Обесценились деньги. Но не тужил о том Магарыч. Чего же тужить, если он не располагал ни одним рублем. Товарищи из дома получили перед отправкой на фронт по сотне-другой, но нерасторопная Лизавета не прислала, и Магарыч ехал без денег. Товарищи жевали картофельные калачи, Магарыч глотал слюнки, но даже мысленно своей нерасторопной Лизавете он не высказывал недовольства. Он даже одобрял ее: чего зря откалывать от самородка кусочки, они еще пригодятся им в будущем. Магарыч получает солдатскую пайку, и пайка его хорошая, а Лизавета — как она сама живет на старые, еще довоенные запасы? Хватит ли их — неизвестно, как незнамо, когда кончится война.
«Тук-трак-так», — стучат колеса; «ту-ту», — гудит паровоз, таща за собой теплушки с бушлатным, закаленным на холодах Сибири войском. Магарыч приближается к фронту. Еще, может, неделю дороги — и войско высадится из теплушек и пойдет пешим ходом. И тогда фронт к каждому солдату приблизится вплотную. И тогда, кому повезет, того легко поранит; кому не повезет — убьют; кому совсем не посчастливит, того покалечат — обе ноги оторвет взрывом, или без рук солдат останется, или лицо ему обезобразит огнем, или перекосит шрамом. Война — каждому своя судьба, свое счастье: иному на костылях ходить, иному — среди братьев лежать вечно в братской могиле, — много прольется со временем на ту могилу слез. Разные мысли приходят Магарычу в голову, но что мысли — придут и уйдут, а радость, с которой сроднился Магарыч с тех пор, как он взял в руки бруски, надеясь получить огонь, останется. Радость останется и надежда: все будет хорошо! И Лизавета веселую весточку пришлет на полевую почту из глухого далекого тыла, и Магарыч с полком благополучно минует великие российские просторы в теплушке, и там, на передовой, с ним не произойдет ничего худого.
«Тук-трак-так», — стучат колеса. «Ту-ту», — гудит паровоз, таща сквозь морозы за собой вагоны.
На конечной станции выгрузились всем полком, дальше идти походом при полной боевой выкладке — с оружием и боеприпасами, с запасным бельишком в вещмешке, кружкой, ложкой и котелком. Сначала шли и днем, и ночью. А как прошли через только что отвоеванный у врага город, еще пустой от живых людей, полуразрушенный, загрязненный, заваленный разбитыми машинами, телегами и ящиками и всяким домашним скарбом, как вверху стали показываться немецкие самолеты-разведчики, так на день стали маскироваться в лесу, — только ночью шли, таясь от врага. Трудно было. Люди и Магарыч тоже от устали валились с ног, спали на ходу. Ноги ныли, гудели от ходьбы, много дней и ночей никто не раздевался, не грелся в избе. Труден, ох как труден пеший поход с полной боевой выкладкой! — но Магарыч не унывал. Как ни тяжко было его телу — в душе жила радость: добудет он деревянный огонь. Даже во сне Магарыч тер друг о дружку бруски и ждал, когда они затлеют, загорятся. Вот-вот загорятся, он видел, уже дымятся, затлели, но тут непременно какая-нибудь помеха: или рядом спящий товарищ в бок толкнет локтем, или командир скомандует: «Подъем!» — Магарыч очнется от сна и поморщится от легкой досады: еще бы минуты две подождали с побудкой — и увидел бы он хоть во сне деревянный огонь!..