Три тополя
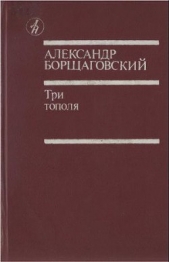
Три тополя читать книгу онлайн
«Три тополя» — книга известного прозаика Александра Михайловича Борщаговского рассказывает о сложных судьбах прекрасных и разных людей, рожденных в самом центре России — на земле Рязанской, чья жизнь так непосредственно связана с Окой. Река эта. неповторимая красота ее и прелесть, стала связующим стержнем жизни героев и центральным образом книги. Герои привлекают трогательностью и глубиной чувства, чистотой души и неординарностью поступков, нежностью к родной, любимой природе, к детям, ко всему живому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Уснул Воронок. Натерпелся.
Он подосадовал на себя, что не назвал Якова полным именем, будто услужил этим Рысцову. Но заново родившийся Воронцов блаженно спал; никому вокруг и в голову не приходило, что его можно величать иначе как Воронок.
— Страху набрался: страх в нем продержится, — отозвался водолаз. — Яшку долго на плотину не заманишь. — Водолаз человек не суетный, с пышущим, красным, без возраста лицом и рыбак нисколько не жадный: его сеточка сутками полеживала на дне под устоем, тащи, кому не лень. Он гордился, что реку знает лучше любого, самую ее суть, душу ее сумеречную, придонную, захламленную и мохнатую, а рыбы повидал под водой столько, что и думать о ней неохота.
Покоем веяло от недвижной листвы и темного, беззвездного еще неба, от притихшей реки и неторопливых сочувственных слов водолаза.
— Яшка и напугаться не успел, — вступился за Воронка Иван. — Хвалился, что нарочно сам прошлюзовался.
Водолаз фыркнул толстогубым ртом: на такой вздор и отвечать не стоит. Рысцов сливал остатки вина в стакан, поглядывал, много ли набралось.
Странным показалось Алексею, что Иван сидит на отшибе, как отлученный, не позванный отпраздновать спасение души и тела Якова Воронцова. Надо бы идти восвояси, а неудобно, хоть через спящего шагай, и люди смотрят, будто ждут от него чего-то. И нашлись слова подходящие, от души:
— Ваш сын сегодня выше всех похвал, Сергей Федорович, — польстил он Прокимнову-старшему.
Коричневые веки Прокимнова приспущены, он смотрел на багровые, в окалине, угли с мимолетными, бегучими языками пламени, потом повернулся, но не к сыну, к Воронку, оглядел его нестриженый широкий затылок, лысеющее темя и открывшуюся над ремнем белую, будто неживую спину.
— Он чуть что первым в огонь. Ему пацанов сиротами оставить — пустяк дело. — В тоне его острастка, давние счеты с сыном, задевающая холодность к Капустину.
— Ведь он человека спас! — удивленно сказала Катя.
— Знай наших! — Рысцов хохотнул. — Не людишки, че-ло-ве-ки! — Он поднялся, нерасчетливо плеснув на уголья из нацеженного вполовину стакана. — Всяк нынче человек: хоть Воронок, хоть похлебаевский этот гаденыш… — Митя волчком смотрел на него. — И ты выпей, Капустин, — сказал Рысцов беззлобно и протянул стакан.
Алексей не спешил брать. Рысцов стоял на дорожке, одет он был против обыкновения неряшливо и не по сезону, в теплый сношенный бушлат поверх обвислой, в прожогах тельняшки.
— Ученик твой отличился, не кто-нибудь: за него и хлебни! — Рысцов подался вперед, и Алексею некуда было уйти от мокрого, захватанного руками граненого стакана. Пришлось взять, а корзину поставить на землю. — Тоже ведь не чужие… — Рысцов подмигнул.
— Брезгует он, — заметил конюх, извиняя учителя перед людьми. — Нас сколько, а стаканов двое. — Он еще не сбросил с себя стесненного больничного житья, и хотя знал от врачей, что почки его не заразные, все-таки жил с чувством некой личной вины перед красотой и соразмерностью мира, и заранее прощал любого, кто с опаской смотрел на его мертвенно-бледное, бугристое лицо. — Я из твоего не пил, Алеша, — сказал он, вдруг оживляясь, взяв с газеты пустой стакан и пальцами, на ощупь постигая истину. — Мне в этот, щербатый, налили, у его, видишь, дно сколотое.
— Нисколько я не брезгую, Петр Михайлович. — Алексей с детства помнил конюха, стройного еще, пружинистого, хитроглазого, доброго к ребятне. — Я вообще-то не любитель, но по такому случаю придется.
Даже Митя посматривал нетерпеливо, понукал его взглядом: неужели трудно, неужели обидит людей, и не простых — в глазах Мити они шлюзовская знать, вершители речных судеб.
— Пей, бухгалтер! — кричал Прошка, едва Алексей пригубил. — Втихую от народа небось лакаешь… Ей тоже оставь, пусть отхлебнет: дамочка кругом виноватая, верно говорю, мужики? — Все помалкивали, держали нейтралитет, но и унимать Рысцова не стали. — И малому дай глотнуть, этот сожрет: Похлебаевы на даровщинку и керосин выпьют.
Митя козлом бросился через костер на Рысцова, но Прошка кулаком сшиб его.
— Их, тунеядцев, гнать из деревни надо: отец в плотниках шабашничает, нужники ставит, а паразиты ихние на Оке браконьерят, — сказал Рысцов успокоенно, будто ему для душевного равновесия только и нужен был этот размеренный, веский удар по живому.
Катя платком утирала кровь из разбитого носа Мити. С мгновенно ожившей неприязнью смотрел Алексей на Рысцова. Его лицо все еще оставалось моложавым, чистым, могло показаться, что человек этот не простого круга, только обстоятельствами вынужденный жить рядом хотя бы и с недужным конюхом. Память о давних сердечных страданиях Рысцова, о том, что повернись дело иначе, и этот человек с русой, седоватой челкой над смуглым лбом стал бы его отчимом, приводила Капустина в замешательство. Он выплеснул остаток водки на уголья, неловко бросил и разбил стакан о бутылку. Пока шипели уголья, все недоуменно смотрели на осколки: в своем ли уме учитель?
— Мы тебя в компанию допустили, а ты вот как, — начал Рысцов с сожалением, что Капустин, оказывается, дрянь человек. — Выходит, не православный ты, если вино в землю льешь. Верно, мужики?
И на это никто не отозвался; чего болтать попусту, они хорошо знали и Марию Евстафьевну, и убитого на войне отца Алексея.
— Сегодня все лакают, — снова вмешался миротворец Петр Михайлович: в палате он всего понаслышался и томился новым знанием. — Мир на вине стоит, оттого и качает народы…
— Это как же качает? — насторожился Рысцов.
— Туды-сюды! Два раза кряду в одно место не попадем. Не понял, что ли? — удивился Петр Михайлович и добавил с внезапной отвагой: — И ты не на месте, хоть и тверезый. Ногами сучишь: уже ты без власти, вроде не Рысцов.
— Кто же я, по-твоему?!
— Прошка! — выдохнул конюх, и столько было в коротком хриплом звуке отчаянного отвержения, что, вдруг ссутулясь, конюх неспокойно огляделся.
— Гнилой ты человек, сам не живой и других в яму пихаешь. — Рысцов произнес эти слова с неличной обидой, а веско, в поучение, и конюх заерзал под его взглядом. — Падло ты! Хуже Воронка!
Глаза его туманились стариковской мукой, крушением, которого он не прощал никому, и жило в нем, прибавляя сил, сознание своей правоты, такое яростное, что Алексей опешил было, потом сказал примирительно:
— Что вы, товарищ Рысцов, нельзя так! — Уже само присутствие спасенного, возвращенного к жизни Воронка звало не к ссоре, а к прощению и доброте.
— Ты, значит, в люди вышел? Учить нас приехал?! — Рысцов злобился, подвигался к Алексею малыми шажками, приставляя ногу к ноге, медля, обдумывая, как ему уязвить учителя. — Пронюхал, что караульщиков сняли, явился Оку зорить… Чего мне еще нельзя?!
Черный бушлат упал с плеч Рысцова, он стоял прямо против Алексея, и частое его дыхание достигало Капустина.
— К людям нельзя так относиться, — спокойно ответил Алексей. — Унижать их. Хоть и словом, если делом теперь не смеете. Они ничем не хуже нас с вами, многие лучше.
Прохор брезгливо отвернулся, чтоб не видеть постной рожи праведника, сокрушенно помотал головой и, узрев корзину белых грибов, ногой ударил по ней так, что она отлетела, рассыпая шампиньоны.
— Набрал навоза, дачник! Ими и коровы брезгуют! — выкрикивал он с ненавистью. — Думаешь, наградят тебя за Яшку? Медаль за спасение повесят? Дуролом ты!.. — И он тяжко выругался, облегчая душу.
Ссора всех подняла, один Воронок беззвучно досыпал свое, не слыша ругани и близких шагов, хотя и лежал ухом к земле, прислушивался к живым ее звукам, чуть было не исчезнувшим для него навсегда.
— Алеша! — Катя тронула мужа за рукав, в ее тоне была просьба не унижаться ссорой и нетерпеливое желание уйти.
Конюх рассовал по карманам бутылки, ветер заломил газету, придержал ее на весу, Петр Михайлович скомкал ее, бросил на уголья, сапогом сгреб в костерок клочья сена и остатки сучьев, и снова вспыхнул огонь, осветив Воронка.
Неловкость, угрюмое замешательство открылись в наступившем молчании. Конюху, который не был на реке, когда спасали Яшку, а прибрел сюда на огонек, невмоготу было это молчание, ему казалось, что в ссоре повинен он, он вызвал Рысцова на ругань, а учителю пришла вдруг охота за него заступиться. Полчаса назад Рысцов ведь тоже честил Ивана — в сердцах или смеха ради: зачем рисковал, мол, нырнул Воронок, значит, судьба, так дураку и надо. Ругал, а все было ладом, никто не затевал свары, и сам Яшка не лез на рожон, только улыбался хворой, повинной улыбкой, печалился, потом заплакал, но все молча, будто его и нет с ними и всякий их приговор, любая злая над ним шутка — все по нему, потому что жив, жив, мог уже не жить, а он жив.

























