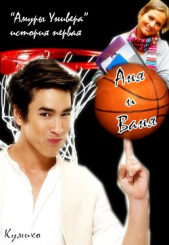Арифметика любви

Арифметика любви читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно. Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В светлые минуты Толстой, с последней искренностью, твердит своей подруге: ты не виновата, не виновата, я понимаю, что ты просто физически не могла следовать за мною по моему новому пути. Я тебя понимаю и я неизменно люблю тебя…
Но перед крупным и самым страшным, — потому что самым мертвым, — толстовцем, Чертковым, Толстой уже начинает оправдываться: «Деторождение в браке, — пишет он ему, — не разврат… и половое общение, позволяющее роду человеческому продолжаться, — не грех, это божественная воля… Христос недаром любил детей…».
Однако, едва прошло несколько месяцев, — вот «Крейцерова соната» с ее послесловием, новая «доктрина», учение о полной чистоте, отрицание брака. Суровая проповедь «братской» любви», ко всем равно. Проповедь, которой сам Толстой, живой человек не следует, — и начинаются новые терзания, недоумение, мучения совести; покаянья перед главным мертвецом — Чертковым и маленькими мертвенькими «толстовцами», — круг которых в это время уже смыкался теснее.
…Я чувствую себя угнетенным, больным, пишет Толстой. Я не могу победить себя… Я хотел бы отдать остаток моей жизни на служение Богу. Но Бог не хочет меня. Или не хочет направить меня на тот путь, по которому я хочу идти… И я раздражаюсь…
Глухо, но всем сердцем, болел он и страданьями Софьи Андреевны. А она страдала не меньше, иногда больше его. Она была той цельной, без особых сложностей женщиной, какой создал ее муж, любовь, долгие годы беспорочного брака. Толстой, в напряженной сложности своей, искал, что-то находил, или думал, что находит. Она же все нашла, ей могли грозить только потери. С мужем и любовью она, действительно, теряла все. Не зная за собой вины (и не имея толстовских «утешений»), она мучалась безвыходно, безразумно, с ощущением самым горьким, — великой несправедливости, над ней совершающейся.
Софья Андреевна — незаурядная женщина. В ней много силы. А вечно прекрасное, — женское и материнское, — так было в ней ярко, что не могли менее яркими быть и другие стороны женского: трепет потери всего, что составляло жизнь, борьба с несправедливостью, собственные несправедливости, несдержанность непонятого страдания.
Все это Толстой понимал. Понимал — и вдруг точно забывал. И опять понимал — и опять забывал. Сила жизни слабела. Можно только удивляться, как еще долго хранилась она под этими путами, которые теперь затягивали на нем, все туже, — другие.
В самом деле: будь его «живой человек» жив, как прежде, разве мог Чертков, пользуясь отсутствием С. А., приехать и увезти к себе все «интимные, тайные дневники», которые муж и она точно вместе 48 лет писали, а она столько раз своей рукой переписывала? Ведь это вся жизнь их, все дурные и хорошие минуты! А Толстой словно и горя ее неистового не понял, огненной боли ее, когда она узнала. Удивился, раздражился (на жену!), а потом все сразу будто забыл.
Но вот больше: мог ли Толстой, до дна правдивый и любящий, пойти на такое действие, как подписыванье где-то в глухом лесу, на пне, таясь и скрываясь, тайное завещание? И потом обманывать дальше, отрицать, что это было? Да прежнему Толстому и предложить этого никто бы не посмел! Но теперь он это делает, — под чертковским кулаком, в котором зажата, вместо медного пятака, — «доктрина». Маленькие, из «восприявших» доктрину, помогают… среди них и собственная дочь Толстого (о ней, о том, что она до сих пор пишет об умершей матери, — не будем говорить).
Чертков позаботился, чтобы лесное, секретное завещание, передающее в его власть все, до последней строчки, Толстым написанное, было юридически законно. Толстой и этому покорился. Даже у некоторых сообщников, маленьких «толстовцев», заговорила совесть. Сомнения явились. Толстой записывает: «Говорил вчера с Р. (о тайном завещании). Да, он прав: я скверно поступил… Я теперь вижу свою виновность… Утешительно, что я сознаю, что все зло от меня одного».
Далее, еще: «Хорошо чувствовать свою вину. Я ее прекрасно чувствую…».
И только. Это уже лепет полузадушенной совести. А любовь? Любовь жива. Всего за десять дней перед тем — нежнейшее письмо к жене: хочет жить с ней доброй, мирной жизнью, обещает не видеть больше Черткова, а ее — никогда не покидать. И кончает: «Ты ушла такая взволнованная, страдающая… Я лег, но я думал о тебе, вернее — чувствовал все время тебя, и не мог спать… Не мучай себя, голубка, ты страдаешь во сто раз больше, чем все другие…».
Последний акт этой жизненной трагедии известен. Но документы, собранные Е. Гальпериным-Каминским, дают некоторые новые, дополняющие ее, черты.
Что такое, в сущности, этот «уход» Толстого? Бежал ли Толстой от «роскошной жизни», от жены, чтобы воплотить, наконец, свою доктрину? Решился ли осуществить давно обдуманное намерение, когда С. А. сделалась окончательно невыносимой? Нет. Толстой бежал этой ночью, как бежит, закрыв глаза и уши, человек, задохнувшийся от ужаса; бежит, сам не зная куда, только прочь — «от всего». В дневнике Толстого так и отмечен этот порыв «убежать от всех» и всего. Он спасается из ада; медленно, постепенно, помимо его воли, но при его участии, превращался несчастный дом — в ад; и превратился, наконец, совершенно, благодаря новой атмосфере — обмана. В этой атмосфере Толстой не задохнуться все-таки не мог.
А Софья Андреевна? Она была в том безответственном, естественно ненормальном состоянии, в которое приходит всякая любящая, обманутая жена. Она чувствует, физически ощущает обман, — и уже ни о чем не думает, ей надо только схватить его, раскрыть, убедиться… а там пусть хоть смерть! Когда молодая женщина ищет на столе мужа любовной записки, в сложном безумии оскорбления и любви, мы сочувственно понимаем ее состояние; как же не видеть, что именно в этом состоянии была и С. А., хотя искала она не любовных записок, а завещание, и обманувшему мужу было 82 года?
Ах, искала завещание, боялась потерять деньги! Плоский вывод этот можно сделать лишь при полном непонимании данной трагедии и ее героев. Сам Чертков так не думал; но он знал, что легко поддаются люди соблазну подобных суждений, — очень, для него, Черткова, выгодных; потому и старанья его — подчеркнуть «меркантильность» несчастной женщины, ее «жадность», ради которой она не жалела «великого человека», — так упорны. Но если были у С. А., раньше, заботы о семье, о средствах обеспечения детей, — в эти предсмертные дни, последние, — никакие «практические» соображения не руководили ее действиями; и сердце, и разум ее были полны лишь хаосом страдания.
Все дальнейшее, внешнее, только поддерживает внутреннюю картину трагедии. Как человек, который в последнем ужасе, с закрытыми глазами, бежит, сам не зная куда (от всего и всех), бежит и падает — упал и Толстой. Жизнь еще теплилась; еще лились слезы, и не уходила «она» из слабеющей памяти… Она близко — но дверь на ключ. Дело попечителей о доктрине еще не доделано. Они окружают постель умирающего, ловят его последние слова. Они спешат даже спустить занавеску на окне, когда лицо той, с кем Бог сочетал его в неразрушимом браке, приникло к стеклу. Это от нее заперли едва живого, — но еще живого, — человека на ключ.
Ключ повернулся не раньше, чем Толстой стал бесчувственным телом.
Так завершилось все.
Впервые эта трагедия рассказана с такой невыносимой открытостью самими ее участниками. Можно ли еще возвращаться к вопросу, кто виноват, — он или она? Разные, они любили друг друга одной и той же, одинаково сильной, любовью. Они оба правы: и перед Богом, и перед людьми. Оба.
Чисто человеческое суждение наше не может, однако, примириться, что виновных нет. Найти виноватого, оставаясь в простой жизненной плоскости, нетрудно: это несомненно Чертков.
Чертков, впрочем, не более, как движущийся и говорящий мертвец. Он однажды провел у нас вечер, с маленьким учеником своим, толстовцем, — уже во время войны, в Петербурге. «Смиренные» слова, «смиренные» движения его, — все напоминало о покойнике. Притом не о простом, добром покойнике, но о каком-то вроде тех, что, в сказке, подымаются ночью из могил, по бесовскому заклинанию. Пил не чай, — горячую воду, и не с сахаром, — с леденцами: все из смирения, очевидно, из верности «доктрине». Тихим голосом излагал статью свою, которую намеревался, немедленно печатать в Англии, — об «уходе» Толстого, конечно, о том, как «хотела смерти великого человека его жена, как систематически его убивала…». Слушать было и противно, и жутко. Но статья, которую он нам оставил (со странной просьбой «ничего не переписывать» оттуда!), оказалась еще противнее. В ней было что-то хуже прямых клевет. Мы знали обоих Толстых (были в Ясной Поляне лет за пять до смерти Л. Н.), но если бы и не знали, если б даже дело шло не о Софье Андреевне, — просто о женщине, отвращение, думаю, было бы то же. Чертков хотел печатать статью немедленно, т. е. при жизни С. А. Хотел сделать то, чего она так страшилась, что предчувствовала: вынести на всеобщий суд ее сокровенную жизнь — и как раз в его, чертковском, освещении. (Не знаю, успел ли он сделать это тогда, успела ли С. А., живая, узнать об этом.)