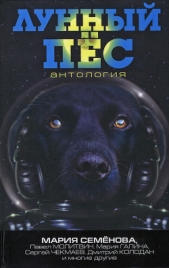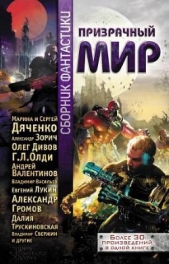Родник пробивает камни

Родник пробивает камни читать книгу онлайн
В центре романа Ивана Лазутина «Родник пробивает камни» — рабочая династия Каретниковых, пять поколений которой связаны с Московским заводом имени Владимира Ильича. Автор рассказывает о судьбе молодой девушки Светланы Каретниковой, яркой, одаренной личности, не поступившей после окончания школы в театральный институт и пришедшей на завод, где работали ее отец и дед. В дружном рабочем коллективе формируется характер девушки, определяется ее четкая жизненная позиция.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Володя, я хочу быть на вашей свадьбе твоим посаженым отцом.
Капитолина Алексеевна поднесла к глазам платок и всхлипнула.
Голос Владимира дрожал:
— Я… Сергей Стратонович… Собственно… — И он почувствовал, как горло перехватили спазмы. — Спасибо…
Кораблинов заключил Владимира в крепкие объятья и по-русски три раза поцеловал его.
Никто почти не слышал, как дверь бесшумно открылась и в гримуборную вошли Елена Алексеевна, Дмитрий Петрович и Петр Егорович Каретниковы. Светлана стояла к ним спиной. А когда обернулась и увидела вошедших, то бросилась на шею матери и, повизгивая от радости, целовала ее щеки, глаза…
Брылев взял за руку Петра Егоровича и нарочито громко, как конферансье, представил его Кораблинову:
— Главный консультант спектакля… Участник Октябрьских боев и штурма Московского Кремля, ветеран завода, бывший красногвардеец Замоскворечья Петр Егорович Каретников!.. Прошу любить и жаловать!..
— Не перехвалите, Корней Карпович, — смутился старик.
— Дедушка Светланы? — удивленно спросил Кораблинов.
— Так точно! Одного сплава, одной породы, одной каретниковской закваски! А это, — Брылев уважительно показал в сторону Дмитрия Петровича и Елены Алексеевны, — родители нашей сегодняшней дебютантки!
— Вашей дочерью можно гордиться! — проникновенно сказал Кораблинов.
Еще не поборов смущения, Каретниковы по очереди жали руку Кораблинову, называли свои имена, а сами нетерпеливо ждали момента, чтобы обнять дочь и внучку, поздравить ее с успехом.
— А потом… — Кораблинов развел широко руками и хотел сказать что-то еще, но, видя, что сияющие от счастья родители и дед его уже не слушают, по очереди зацеловывая Светлану и тиская ее в объятиях, отошел в сторону. Стоял и любовался полнотой сдержанного отцовского счастья, чистотой материнских слез, стыдиться которых в эти минуты просто грех. Особенно покорил его дед Светланы. Он прижал внучку к груди и, глядя куда-то поверх голов всех, кто находился в комнате, сказал, словно они были вдвоем.
— Спасибо, дочка.. Спасибо… Так вот всегда нужно… И в жизни у тебя чтоб было так, как у Люси Люсиновой. — Лицо деда было суровым.
В худом, высоком и сутуловатом старике Каретникове наметанным глазом режиссера-художника Кораблинов увидел яркий социальный типаж, человека с большим и светлым прошлым. Повернувшись к Брылеву, он театрально-царственно предложил:
— Корней Карпович, налей!.. Здесь все свои!..
Брылев со звоном откупорил шампанское и начал разливать по бокалам. Ему помогал Владимир.
— Эх!.. Была не была — повидалась! — звонко воскликнул Брылев. — Дальняя дорога, казенные хлопоты, сердечные встречи, нечаянный интерес, и все кончается свадьбой!.. Все идет как в добротной классической драме!..
— Что ты делаешь, Корней! — всполошилась Капитолина Алексеевна. — Ты, кажется, и себе налил?
Брылев поднял бокал и подмигнул ей.
— Не волнуйся за Брылева, Лексевна!.. Это моя предпоследняя в двадцатом веке. Последняя чарка будет на свадьбе у Светланы!
Только один Владимир видел, что в свой бокал Брылев налил нарзан, а поэтому он знаком, незаметным для других, успокоил Капитолину Алексеевну.
— Прошу, Корней, тост! — обратился к нему Кораблинов.
— За сибиряков, которые в сорок первом защищали Москву! За сибиряков, которые сегодня побеждают Москву и московских красавиц!.. — Широким жестом Брылев показал на Светлану и Владимира.
Все подняли бокалы. Владимир подошел к окну. Сильной отмашью руки распахнул штору. Цветное зарево сияло над стенами Кремля. Били куранты. Владимир вернулся к столу. Сдвинули бокалы.
— За искусство и за жизнь! — торжественно провозгласил Кораблинов, почтительно глядя на старшего Каретникова.
— За жизнь и за искусство! — так же торжественно поддержал его Петр Егорович.
Хрустальный звон бокалов слился с боем курантов. За широким светлым окном на фоне ночного московского неба вырисовывались четкие силуэты Кремлевских башен.
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
На улице шел дождь. Шел с самого полудня. Через открытую форточку было слышно, как приглушенным дробным шелестом он стелился по шиферной крыше дачи и, стекая во подвесному железному желобу, монотонно гудел в водосточной трубе. Изредка в эту однообразную и тоскливую музыку осеннего ненастья врывался прилетевший со стороны железной дороги чугунно-надсадный гул тяжелого товарного состава, который проходил мимо дачной платформы на полной скорости, огласив тревожно-предупреждающей сиреной электровоза утонувшие в дождевой хмари и непроглядной темени молчаливые, мокрые дачи, в которых еще кое-где рыжими квадратами светились окна.
Шел двенадцатый час ночи.
Закрывшись от всех домашних в натопленной гостиной, Кораблинов рассказывал молодому драматургу Ряжскому историю о том, как старый артист влюбился в красивую девушку и как на любовь его она ответила оскорбительной пощечиной.
Почти рядом с чугунным жерлом камина, положив голову на широкие лапы, дремал Палах. Время от времени, когда в камине сухо и звонко трескался уголек, он нехотя и полусонно открывал глаза, бросал равнодушный взгляд на горящие поленья и тут же снова, не шелохнувшись и не дрогнув ухом, смежал свои рыжеватые веки. Как и хозяин дома, Палах уже изрядно пожил. Ему шел восемнадцатый год. А для собаки это уже глубокая старость.
Помолодевший от нахлынувших воспоминаний и откровений, Кораблинов вышагивал по ковру, застилающему пол просторной гостиной, и не упускал мельчайших деталей в своем рассказе. Он отлично помнил даже цвет платья, босоножек, в которых более пяти лет назад порог его квартиры переступила семнадцатилетняя девушка. Она-то, по замыслу Сергея Стратоновича, и должна стать героиней задуманного фильма, сценарные наброски которого он сделал уже год назад.
В камине догорали сосновые поленья. И только кое-где над кровавыми, рдяными углями в мареве жары еще плясали голубоватые огненные язычки, напоминающие уголки газовых цветных косынок, полоскавшихся на ветру. Осенними вечерами Сергей Стратонович любил работать на даче, у горящего камина.
Кораблинов закончил свой рассказ, грузно опустился в старинное кресло с потертой бархатной обивкой и сурово посмотрел на драматурга, который во время его рассказа то, будто завороженный, доверчиво смотрел широко открытыми глазами на Кораблинова, то поспешно, словно боясь, что сможет забыть очень важную деталь из рассказа старого режиссера, принимался делать какие-то беглые заметки в своем блокноте. Всякий раз, когда он склонял голову над блокнотом, на его высокий и чистый лоб падали крупные волны длинных светлых волос и закрывали лицо.
Кораблинов смотрел на молодого драматурга и, казалось, мысленно взвешивал — по плечу ли будет ему его замысел? Потом, переведя взгляд на камин и наблюдая, как в нем постепенно, почти незаметно для глаза, умирает над маленьким угольком мотылек пламени, заговорил:
— Мне кажется, что на этом материале можно сделать добротный сценарий. — Кораблинов устало опустил глаза. — Это, пожалуй, будет моя последняя работа в кинематографе.
Кораблинов от всех скрывал, что с каждым годом давление крови у него повышалось. Из второй стадии гипертония как-то незаметно переползла в третью, последнюю. Врачи настоятельно требовали, чтобы он немедленно прекратил работу и доживал свой век в тишине, на пенсии. А иначе… Приближение этого «иначе» Сергей Стратонович ощущал все чаще и внушительнее. Иногда его так пошатывало, что он ходил держась рукой за стенку, скрывая свое нездоровье от жены и от друзей. И головные боли… Эти мучительные боли в затылке — как они иногда изнуряли его.
— Кто будет ставить фильм?
— Волчанский. В него он вдохнет не только всю душу режиссера-художника, но и всю свою почти фанатическую убежденность, которая держит его на земле…
— Но он же болен? И, говорят, серьезно.
— Эта работа будет его лечить. Я знаю Волчанского, а он знает свое дело.
— Кто будет играть главную роль?