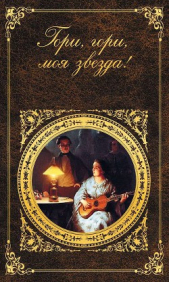А ты гори, звезда

А ты гори, звезда читать книгу онлайн
Читателю хорошо известны книги лауреата Государственной премии СССР Сергея Сартакова: «Барбинские повести», «Хребты Саянские», «Ледяной клад», «Философский камень». Его новый роман посвящен соратникам В. И. Ленина, которые вместе с ним боролись за создание большевистской партии, готовили победу Октября в России. Одним из них был Иосиф Федорович Дубровинский, профессиональный революционер, человек несгибаемой воли, беспредельно преданный делу революции. Роман широко и ярко воссоздает историческую обстановку в России на рубеже XIX–XX столетий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не имеет значения — писатель или не писатель Леонид Андреев, — задетый за живое, ответил Фуллон, переменив спокойный тон на начальственные раскаты. — Вы арестованы как соучастник тайного совещания противоправительственных заговорщиков.
— Угу! Что еще мне приписывается? — хрипловато пробубнил Андреев. И вдруг озарился наивной детской улыбкой: — В ночном горшке под кроватью ваши подручные обнаружили гремучую ртуть?
— Шутить, Леонид Николаевич, у вас не отнимается право, — сказал Фуллон. — Но свободы лишить вас я обязан. До последующих распоряжений высших властей.
Выдержать это было невозможно. Дубровинский вскочил со стула, подбежал к Фуллону:
— Господин штабс-ротмистр, Леонид Николаевич не имеет решительно никакого отношения к нашему совещанию. Он даже не видел ни разу ни одного из нас, кроме меня, и то, когда я, совершенно незнакомый ему человек, имел дерзость попросить разрешения собраться вот здесь. Мы все свидетельствуем, что Леонид Николаевич болен и не показывался в этой комнате. Арестовывать знаменитого писателя лишь за то, что неизвестные ему…
— Господин Дубровинский, — оборвал Фуллон, — ваше свидетельство ни к чему, все это будет проверено следствием, в том числе и сколь незнакомы хозяину квартиры собравшиеся у него люди. Что же касается таланта Леонида Николаевича, перед коим и я преклоняюсь, смею напомнить: не менее знаменитый писатель Максим Горький, как вам должно быть известно, ныне также находится под арестом. И простите, Леонид Николаевич, если заимствую ваши слова, не за то, что обнаружено у него в ночном горшке под кроватью.
Он открыл портфель, вытащил из него бумагу и принялся составлять протокол о задержании группы подозрительных лиц и о произведенном у этих лиц, а также в квартире писателя Андреева обыске. Полицейские ощупывали карманы арестованных, выбрасывали на стол их записные книжки, портмоне, ключи, проездные билеты, все до мельчайших предметов, найденных там. Прибыли и еще чины в жандармских шинелях. Фуллон распорядился, чтобы они с понятыми приступили к осмотру и всех наружных помещений, слазили на чердак, открыли сараи и особо проверили поленницы дров, сложенных у забора.
— Леонид Николаевич, бога ради простите меня! — вдруг спохватился Фуллон, отрываясь от бумаг и обращаясь к Андрееву. — Я вас держу, так сказать, в неглиже. Будьте любезны, оденьтесь. И теплее. На дворе метелица, а вам и так нездоровится.
— Так вы что же намерены делать с нами, штабс? — брезгливо спросил Андреев. — Со всеми нами?
— Имею указания. С вашего разрешения, господа, в Таганскую тюрьму. С вашего разрешения, до суда прямо в Таганскую тюрьму. Там и вести дальнейшее следствие будут. А что после? Сами знаете, время у нас нынче суровое.
Дубровинский стиснул кулаки, ощутив на запястьях словно бы холод и тяжесть цепей. Таганская тюрьма — знакомая уже тюрьма — в Москве самая скверная. Да не в том еще дело, что она просто скверная и что конечно же посадят в нее надолго, торопиться со следствием не станут. Стисни зубы, собери всю волю в комок — и дни потекут, дни нравственных страданий от вынужденного бездействия, дни мучительного ожидания свободы. Дело в том, что из этой Таганской тюрьмы вряд ли скоро удастся подать голос товарищам. Хотя бы Красину или Любимову, единственным уцелевшим от ареста членам ЦК, а ведь сегодня, пусть в буре и грызне, принято важное решение.
Каким образом Ленин, для которого это не безразлично, узнает о нем?
Бесспорно, так или иначе, независимо от любого решения ЦК, а съезд все равно состоится, для партии он жизненно необходим.
Но разве партии все равно, остались ли некоторые ее доверенные представители при прежних своих заблуждениях или честно отказались от них и готовы теперь взять на себя все самое трудное и опасное!
Как об этом узнает партия?

Книга вторая

Часть первая
1
Небо, и всегда магнитно притягивающее к себе взгляд человека, на этот раз казалось особенно глубоким. Может быть, потому, что был поздний вечер и давно отцвели блеклые краски зимней зари. Может быть, потому, что высокие сосны, обступившие заснеженную аллею парка, заслоняли собою горизонт и только самый купол неба оставался открытым. Может быть, и потому, что много дней подряд озоровала вьюжная непогодь, заставляя отсиживаться в тоскливых стенах санаторной палаты, а теперь вдруг наступила торжественная тишина.
Жгуче горели далекие звезды, но если постоять даже немного, совершенно не двигаясь, можно было заметить, сколь быстро проплывают они над головой. Это текла в неизвестность река времени.
Врачебные предписания жестки. Перед сном небольшая прогулка на свежем воздухе, на ночь теплое молоко и микстура, унимающая кашель. Конечно, все это приятно. Точный распорядок дня, вкусная, обильная пища, мягкая постель с накрахмаленным бельем, ласковый говорок сестры милосердия, приносящей в палату лекарства, тихий, задумчивый парк. Но все это не для души, не для сердца. Что толку, если кашель становится реже, не так одолевает одышка, подушка под утро остается сухой, не промокшей от проливного пота, и ноги при ходьбе не дрожат; что толку от этого, постылой кажется сама жизнь, если она ради только вот такого приятного, размеренного существования.
И это в то время, когда ты можешь и обязан помочь товарищам, общему делу, когда вся Россия еще кипит революционной страстью.
Этот вечер можно гулять допоздна, нарушив режим. Все равно завтра отъезд. И хотя добрый хозяин врач Сатулайнен будет грустно покачивать головой, убеждая остаться в санатории по крайней мере на месяц (ведь лечение все же идет успешно), поддаться такому соблазну нельзя. Радости это не принесет. Гурарий Семеныч Гранов тоже вздохнет, он в крепкой дружбе с Обухом, и тот, конечно, в частном письме нарисовал картину весьма драматическую. Ох уж эти врачи! Если бы не доктор Обух, не его железные настояния, разве бы он, Дубровинский, поехал сюда, под эти тихие сосны, пить на ночь теплое молоко! Впрочем, Гурарий Семеныч, милый человек, только вздохнет, а уговаривать больше не станет, он прежде всего хороший психолог и знает, что бесполезно лечить тело, если страдает душа. Шесть недель, проведенных здесь, показались бы совершенно непереносимыми, если бы не ежедневные беседы с этим чудесным стариком, преданным делу революции не меньше, чем заботам о здоровье своих пациентов.
Всяк должен быть на своем месте. Обух — прекрасный оратор и образованнейший врач, наибольшую пользу приносит, вращаясь в близких ему интеллигентных кругах Москвы. Ему пока нет надобности уходить в глухое подполье. Гурарий Семеныч, умелый конспиратор, особенно по части передач нелегальной литературы и укрытия товарищей от преследования полицейских ищеек; он сам побывал однажды в их лапах и в ссылке и теперь работает здесь, в Финляндии, где революционеров порой и видит петербургское жандармское око, да зуб неймет, — здесь свои государственные законы. Ну, а Дубровинскому, «Иннокентию», должно быть только в самой гуще борьбы, безразлично, какими последствиями потом ему будет это грозить. Характер свой не переделаешь. Да и зачем переделывать? Работать надо всегда в полную силу. А лучше, если сверх сил.
И быстрой чередой пронеслись в сознании события минувшего года, с той поры, как захлопнулась скрипучая дверь общей камеры Таганской тюрьмы, а потом, через восемь месяцев, вновь распахнулась, и в глаза ударил слепящий свет октябрьского дня; народные толпы, выкрикивающие радостно: «Свобода! Свобода!»; в растерянности стоящие у тюремных ворот городовые; они, привычные к свирепому разгону любого скопления людей, не знали, как держать себя теперь, после царского манифеста, провозгласившего неприкосновенность личности.