Зенит
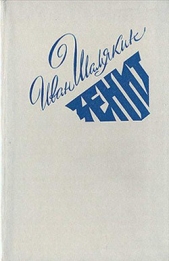
Зенит читать книгу онлайн
Новый роман известного белорусского писателя И. Шамякина «Зенит» посвящен событиям 1944–1945 гг., развернувшимся на Карельском фронте. Автор повествует о героической судьбе девушек-зенитчиц, прошедших по дорогам войны до Берлина и вернувшихся к послевоенной мирной жизни, со всеми ее превратностями и осложнениями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вон, младший, твои пушки стоят.
— В каком мы госпитале?
— В каком-то их техническом училище.
Так это же рядом с нашей третьей батареей! Знал я этот госпиталь, много раз проходил мимо по дороге с третьей на вторую батарею.
Попросил санитара сходить к нашим сказать, что я здесь.
На следующий же день навестили Тужников и Колбенко. Потом Кузаев с Антониной Федоровной. Потом снова она с Марией Алексеевной. Данилов пришел хмурый, похудевший. Он один не порадовал — испортил настроение, спросил зло:
— Твоя работа — перевод Лики на третью?
— Что ты, Саша! Слова никому не сказал.
— А кто?
— Ты думаешь, Кузаев не догадался о причине твоего….
— Заткнись. — Он оглянулся на моего соседа по кровати: стыдился слова, которое я мог произнести.
Я перешел на шепот:
— Антонина… знаешь какая сваха. О каждом знает. Всех девчат готова выдать замуж.
— Окружились бабами — сами бабами стали. — Кто?
— Ты — первый.
— А ты?
— Да и я, идиот. Нужно было и мне, как Масловскому. Завидую ему. И Жмур твоей. Она — цыганка, а не я — цыган. Слюнтяй детдомовский!
Сжал его руки:
— Не сорвись, Саша. Не сорвись.
— Теперь уж не сорвусь. Перегорело, — грустно пообещал он.
Женя Игнатьева приходила почти каждый день. Товарищи по палате шутили:
— Младший, чем ты так притягиваешь девчат? Поделись опытом.
Женю полюбили. Она навещала не одного меня — всех. Многих никто не мог посещать — их части штурмовали Берлин. Женино умение всем подарить улыбку, книгу из гомельской библиотеки, веточку сирени, найденный в парке сморчок трогало раненых. Она успевала каждому поправить постель, почитать, поговорить. Ее звали «сестричка». О ней говорили: «Вот — идеал милосердной сестры, а наши задубели уже». Госпитальные сестры ревновали к Жене, хотя не отваживались выставить ее из палаты — опасались нашего бунта. Да и помощи ее не могли не ценить.
В тот день никто не пришел ко мне. И я встревожился, особенно когда сразу не увидел пушек, так за сутки сгустилась листва. Нет, потом рассмотрел третью пушку — сержанта Рогового. Старую липу расщепило молнией или бомбой, и образовалась прогалина. Через нее я смотрел на пушку весь день.
Кроме той, необычной, непомерно великой радости, которую ожидал весь народ наш, вся Европа, была у меня в тот вечер собственная маленькая радость — я проверял свои силы: раз пять спустился вниз и поднялся на верхний этаж, штурмовал лестницу, как шутили мои соседи.
Но была и печаль, общая, всего этажа. Лежали там люди, видевшие тысячи смертей, некоторые сами умирали не однажды. На войне привыкают к смерти, в госпиталях — особенно. Правда, я попал в счастливую палату: за три недели умерло всего двое. В те дни весельчаки, острословы понуро молчали.
В госпиталях хоронят в гробах. Кто-то из наших сходил в мастерскую и вернулся угнетенный: сколько там делают гробов! Правда, траурная музыка звучала всего один раз — хоронили генерала. От раненых скрывали смерти. Старались скрыть и безнадежных, но на всех смертников отдельных палат не хватало. Милда Юркане лежала в отдельной палате. Однако о ней знал весь госпиталь. Оперировал разведчицу здесь, в Ландсберге, повторно главный хирург фронта, приезжал из Познани. Посещали ее генералы. Весь персонал госпиталя, от нянек-немок, от поваров до хирургов и все раненые, кто пролежал здесь хотя бы два-три дня, встречали утро вопросом: «Как Милда?» Набожные «деды» молились богу за нее. Но тяжелее было третьему этажу, она была рядом, и хотя к ней не пускали, мы, ходячие, заглядывали. Да нередко замечали и сестер, тех сестер, что видели-перевидели за войну все человеческие муки, выходивших из ее палаты в слезах.
Про Милду рассказывали легенды. Латышка, она досконально знала немецкий язык. И умела перебираться через самый плотный фронт с легкой короткодистанционной рацией. Передавала данные, корректировала огонь артиллерии. Запеленгованная немцами, несколько раз вызывала огонь на себя. Под Кенигсбергом ее нашли под развалинами дома контуженую, но живую. Очутилась она за вражескими позициями и в день прорыва на Одере. Ее захватили на Зееловских высотах. Озверевшие эсэсовцы не убили разведчицу — садистски отсекли груди, уши, пальцы рук. Но когда они убежали при приближении советских танков, у Милды хватило сил выставить через решетку балкона свои окровавленные руки. Их увидели танкисты.
Москва сообщила о капитуляции поздно ночью. Выступил Михаил Иванович Калинин. Здание госпиталя задрожало от «ура»! А город озарился салютом. Ракеты сыпали красный и зеленый серпантин. Небо расписали цветные трассеры. Раненые, кто мог ходить, высыпали во двор. Стучали двери. Гудели лестницы.
Прежде чем спуститься вниз, я заглянул в палату Милды. Голова ее забинтована, и она не могла слышать радостные крики. Но пробудившиеся глаза увидели огни за окном, и в ее искалеченной головке возникла догадка. Взглядом попросила подтверждения. Я закричал что есть силы:
— Победа! Милда! Победа! — и подбросил вверх свои костыли. — Живи только… Живи, сестричка!
Очень может быть, что она услышала «Живи!» — из глаз ее выкатились крупные слезы.
Во дворе врачи салютовали из пистолетов, бойцы охраны пускали ракеты. В свете их толпа… большая толпа, может тысяча человек, в белых, серых, синих халатах казалась необычным сказочным войском. Люди обнимались, целовались. И плакали. Женщины плакали — сестры, санитарки, врачи, кухарки. Да и не только они. Меня обнял старый усатый майор в кителе, но в тапочках, уткнулся лицом в плечо, затрясся от немого рыдания.
— Сынок, сынок… Мальчики мои Виталий и Костя не дошли… не дошли, сынок. Живите, дети, живите.
Салют из стрелкового оружия как бы увенчал залп зенитной батареи. Одной. По направлению и дальности я определил: Данилов. Ах, горячая цыганская голова! Достанется тебе, если без разрешения. Но разве в такую ночь можно не салютовать? Молодец, Саша! Молодец! Удивило, что Кузаев не дает команду всему дивизиону. Хотя нет, нельзя! Нельзя салютовать боевыми. Осколки! Все же люди на улице — наши. Огонь из стрелкового оружия тоже небезопасен. Пальнет кто-нибудь не вверх. Не дай бог в такой торжественный час кому-то умереть от своих пуль, осколка. Еще умирают от немецких. Умирают… В полночь слушали сообщение о боях в Чехословакии. Выходит, после подписания капитуляции…
Замполит госпиталя говорил речь. Но слушали его немногие. Нет, слушали, пожалуй, все, но каждый думал о своем, каждый переходил рубеж, от которого начиналась новая Жизнь. Лично я иначе и не представлял ее, как с большой буквы.
Потом врачи, сестры упрашивали раненых вернуться в палаты. Светало. Там, на востоке, на Родине, давно начался первый день мира.
Когда поднимался к себе, на втором этаже меня перехватили старшие офицеры, затянули к себе в палату. Госпиталь равняет в званиях. А Победа вообще слила все звездочки в одну — в маршальскую, не ниже. Да, в ту историческую минуту мы были Солдатами и все Маршалами, поскольку все были Победителями.
— За Победу, товарищи!
Звенели стаканы, кружки, бокалы. Где набрали столько в ночное время, что на каждого хватило?
Я опьянел. Нашла меня встревоженная сестра нашего отделения, вела на третий этаж с необидными упреками. А я старался поцеловать ее. Она отмахивалась и смеялась, хотя обычно была серьезная и строгая.
Проснулся я от музыки и солнца. Палата опустела. Только двоим из партии выздоравливающих не позволяли еще подниматься.
Капитан, сосед по кровати, пошутил:
— Тепленький ты, младшой, вернулся утром. Где так крепко вмазал? О товарищах своих небось не подумал. Наши тут от твоего духа слюнки глотали.
Стало стыдно и… тревожно. Почему вдруг тревожно. Победа же! И день — какой день!
Без костылей, хватаясь за кровати, доскакал до окна.
Солнце! Кажется, никогда такого ослепительного не видел. Оно заливало весь мир. Из окна далеко видна была зеленая пойма Варты с озерками от недавнего паводка. Река искрилась, радостно смеялась. Чужая река. Как же там родной Днепре в этот день? И смеется, и плачет, как все мы ночью. За рекой, в лагере итальянцев, интернированных немцами, играли в футбол.




![В зените [Приглашение в зенит]](/uploads/posts/books/51888/51888.jpg)





















