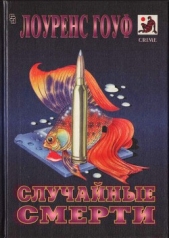Случайные обстоятельства
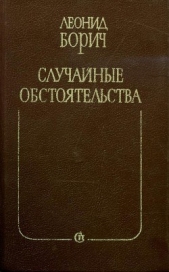
Случайные обстоятельства читать книгу онлайн
Герои нового романа Леонида Борича «Случайные обстоятельства» — наши современники. Опытный врач, руководитель кафедры Каретников переживает ряд драматических событий, нарушающих ровное течение его благополучной жизни. Писатель раскрывает опасность нравственной глухоты, духовного мещанства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уже не только сердце, но все внутри ныло, вздрагивало в нем, и такое отчаяние, такая горькая обида на несправедливость этой жизни поднималась в душе Андрея Михайловича, что в пору было, кажется, бросить любой вызов судьбе, устоявшемуся своему благополучию, всему, что он достиг, еще может достигнуть, не боясь за это никакого возмездия, да и не думая о нем в эти минуты. Он мог бы сейчас понять какого-нибудь верующего фанатика, вдруг замахнувшегося на самого господа бога.
Впрочем, на что же и на кого ему было замахиваться, когда так все неконкретно? Казнить себя теперь за то, что всю свою сознательную жизнь, любя отца, тем не менее всегда относился к нему как-то снисходительно, даже жалел за его не слишком удавшуюся жизнь и только тем и сочувствовал — вот этой самоуверенной жалостью?
А мать?... Пусть она при них, детях, не то чтобы никогда и слова плохого не сказала об отце, а нередко даже ставила его им в пример — его знания, честное отношение к делу, его порядочность, трудолюбие, отзывчивость, деликатность, — но всегда, всегда за всем этим присутствовало не высказанное вслух сожаление: дескать, с такими качествами, как у отца, можно бы и гораздо большего достигнуть — можно бы, а... И тут же, теперь уже не просто как пример положительных человеческих качеств, но как достижения истинные, как успех в жизни несомненный, приводились совсем иные образцы, и сам их выбор был нагляднее всяких слов. То есть отец, учила она их (опять не рассуждениями, не вслух, а своим личным отношением, взглядом, мимикой, жестом, терпеливым молчанием в ответ на какие-то высказывания отца), отец, безусловно, достоин всяческого уважения — в конце концов, вообще как отец! — но стремиться-то им, детям, нужно совсем к иным образцам для подражания, если они серьезно хотят чего-то добиться, достичь.
Вот как она, например: начинала простым участковым врачом, потом в поликлинике стала вскоре отделением заведовать, потом возглавила эту поликлинику, вывела ее на первое место, затем — главврач крупнейшей больницы, кандидатскую защитила по вопросам организации здравоохранения, выбрали депутатом райсовета, возглавила здравотдел своего района, стала депутатом горсовета... А как же иначе расти?!
Или вот однокашники их отца по университету: и в подметки, казалось бы, ему не годились, а двое уже давно доктора наук, крупнейшие литературоведы, да и остальные тоже — кто в институтах преподает, кандидаты наук, кто отделами наробраза заведует. В крайнем случае, стали директорами школ... И снова все это говорилось матерью достаточно осмотрительно, чтобы не подрывать отцовского авторитета: ни слова о том, как не успел в жизни отец, — просто как успели в ней другие...
Но если отцу вовсе и не нужно было всех этих успехов?! Никого ему не хотелось возглавлять, никого контролировать. Он был счастлив, что может возиться со своими учениками, проверять сочинения, радоваться проблеску какой-то их самостоятельной мысли, читать то, что ему интересно, поступать так, как хочется поступить...
Но, выходит, он всю жизнь совсем не за то жалел отца, а что надо было его жалеть?
А... а за что надо было?
Он пробовал доказательно перечислить за что, но каждое из понятий, которое для кого-то, да и для самого Андрея Михайловича, было безусловно важным, как-то сразу же, стоило лишь применить его к отцу, утрачивало свою несомненность, ибо ничто из того, что приносило и кому-то, и Андрею Михайловичу удовольствие, радость, чувство собственного достоинства, понимание своей осуществленности и успеха в жизни — ничто из этого не принесло бы его отцу такого же удовлетворения, как та жизнь, которой он ежедневно жил. Тут была какая-то абсолютно другая шкала ценностей, другая мера отсчета... Ну вот как, скажем, и я, и все вокруг с увлечением, гордясь собой, перепрыгиваем планку, установленную на определенной и достаточно почетной высоте, а где-то в сторонке, хоть и рядом, прыгает себе, не оглядываясь на вас, человек, для которого ваша высота — это вообще не предмет для попыток: его планка просто на порядок выше. И тут уж не важно, что не всегда удается ее перепрыгнуть. Класс-то совершенно иной!..
За что же его жалеть? Тут не то что жалеть, а...
Боль в сердце совсем отпустила, но вставать с дивана не хотелось, он протянул руку за отцовской тетрадью и стал дальше читать.
Все, чего он достиг...
Не понимая, о ком это, Андрей Михайлович вернулся к уже прочитанному, но никакой связи с предыдущим он не нашел. Видимо, отдельная какая-то запись.
Все, чего он достиг, все им заслужено, и все как будто благополучно... Отчего же в душе такое постоянно ощущение, такая за него обида, что с его жизнью какая-то несправедливость происходит?..
Да, за всех он душой болел, на всех его хватало... Андрей Михайлович перевернул страницу.
Мечта о возможности жить жизнью другого человека или других людей была в классической литературе столь очевидным, непременным условием любви и счастья, что воспринималась не только с доверием, но и как само собой разумеющееся, почти как банальность. В конце двадцатого века мы нередко смотрим на это как на некую сентиментальность, в лучшем случае — постигаем как откровение. Нынче вроде бы и времени нет, чтобы себя еще и на кого-то тратить. Но, не потратившись, как же сполна ощутить то, что может тебе другой дать? А вернее — что мог бы дать, да тоже не дал, потому что и ему ведь тоже некогда. Какое-то взаимное невольное обкрадывание...
Андрей Михайлович попытался как-нибудь на себе примерить это рассуждение, и так почему-то вышло, что сразу о женщинах: вот когда, допустим, ты к ней меньше проявляешь чувства, чем она к тебе, то... то и она, значит, дает тебе меньше, чем могла бы, то есть ты сам же себя и обкрадываешь, а не только ее... Так, что ли? Может, так, пожал он плечами.
Читая дальше, Андрей Михайлович улыбнулся наивному, прямо-таки юношескому максимализму отца, натолкнувшись на утверждение, что для того, чтобы понять проблемы всего общества в целом, достаточно, мол, внимательно изучить проблемы общеобразовательной школы.
Но и об этом все равно было интересно читать, как трогала и не менее наивная его вера во всесилие литературы, хотя тут же, страницей спустя, видна была и растерянность, что ученики его совсем не так, как он ожидал, восприняли какое-то стихотворение. Он потом снова возвращается к этому случаю: как же так? Стихотворение ведь о том, как хладнокровно избивают девушку, а ребята смотрят на меня спокойно, вежливо, и на лицах — скука! Ну, дескать, да, бывает; нехорошо, конечно... Выходит, понимания у них не отнимешь. Что ж — чувства нет?! И смешная радость по поводу своего открытия — пусть и с опозданием, но зато через них, его учеников, благодаря им: стихотворение-то, если как следует присмотреться, вслушаться в него, — слишком все оно в заботе о самом себе, увлеченное собственным ритмом, поигрывающее своей профессиональной умелостью, но какое-то головное, холодноватое, без острой боли.
Андрей Михайлович словно бы почувствовал сейчас это отцовское облегчение за своих учеников: не они бесчувственны, а само это стихотворение.
Дальше снова шли общие рассуждения, и Андрей Михайлович, читая дневник, не думал о том, насколько он согласен или не согласен с ними, — просто было приятно и грустно одновременно, что он словно бы слышит глуховатый негромкий голос отца.
Интеллигентный человек — это не только способность сострадать. Это еще и совиновность. Это — когда видишь калеку и вдруг испытываешь свою как бы личную вину за него, за таких, как он.
Цена каждого дня, каждого поступка — всего, что кажется текущим... Из ста мышей не создать, конечно, и одного слона. Но из ста мелких повседневных поступков, может быть, как раз и складывается наша одна жизнь?
Иной раз по судьбе отдельного какого-нибудь слова можно целое явление в жизни проследить... Любопытно, что в самых классических наших словарях — у Даля и Ушакова — нет, например, слова «конформизм». «Конфорка» — та есть...
Андрюшины проблемы — где взять санитарок, сестер — это гораздо шире, чем соображение демографических сдвигов, престижности, материальной заинтересованности и т. п. Это в значительной степени проблема нравственная. Как вообще так воспитывать ребят, чтоб они готовы были не только к поступкам перед всем человечеством, не только ради всего человечества, но и к поступку перед самим собой, к поступку ради одного конкретного страждущего человека?
Предложил как-то своим ребятам такое условие: науке необходимо проверить, как воздействует реальный космический полет на нетренированный организм. Дело, конечно, рискованное... Кто бы из вас согласился лететь?.. И подсчитывать не надо — все руки тянут. Ну, хорошо... А вот рядом, в больнице, за полквартала от нашей школы, лежат тяжелые, обреченные больные. Нет-нет, кожу не пересаживаем, кровь не переливаем, доноры не нужны, опустите руки. А вот скрасить бы последние их недели, поухаживать — выносить от них, простыни менять... Кто готов идти?.. Молчание. Явное затруднение на лицах. Разочарование. Нерешительные две-три руки, да и те, застеснявшись, опустили... Почему? А потому, что подвигом вроде бы не назовешь — другой сорт... Как-то стесняемся мы на милосердии воспитывать...
Андрюша спросил вчера, почему мне Сушенцов не по душе. Неужели только из-за того давнего случая с его аспирантурой?
— С чего ты взял? — не очень искренно удивился я. — Но могу сказать, что мне по душе...
— Да?
— Ваше расхождение с ним. Мне кажется, что, когда ты говоришь, что на больных времени не хватает, ты все-таки с сожалением об этом говоришь, а твой Сушенцов, насколько я понял из нескольких разговоров с ним, — по-моему, даже с удовольствием и гордостью. Нравится ему своя занятость. Уважение к себе от этого побольше... А чем, кстати, Иван Фомич тебе не очень по душе?
— Ну что ты, папа! Он вполне. Милый, старательный, честный... Ему бы, правда, Володину хватку и талант ученого...
— Мне кажется, у него более редкий талант: он добрый. Его должны больные любить. Когда он спрашивает: «Как ваше здоровье?» — хочется отвечать, потому что видишь, что его это действительно интересует. Он — добрый.
— Иной раз — так даже чересчур, — усмехнулся Андрей. — А что, по-твоему, доброта всегда уместна?
— Думаю, всегда.
— А не приходило в голову, что из-за нее, бывает, и в дураках остаются?
Надо бы, наверно, было сказать Андрюше по поводу доброты, что, может, это как раз тот единственный случай, когда не должно быть стыдно даже и в дураках иногда оставаться. И потом, что за нежности при нашей бедности?! Что за опасения такие?! Вроде бы рано еще нам беспокоиться, что мы перебарщиваем со своей добротой. Надо бы, наверно, все это сказать — да не сказал... А ведь бывает, бывает же, что мы с ним очень близки друг другу!..