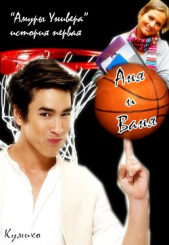Арифметика любви

Арифметика любви читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно. Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перешли к чайному столу, пили чай; семейные не все явились; приходили, перекидывались кое-какими словами, уходили. С краю стола, около Толстого, сидели только Андрей и литератор в рыжей куртке. Сам неговорливый, он сумел опять завязать разговор, и уже окончательно на религиозные темы. Софья Андреевна, с обычной своей порывистостью, встала, ушла и не вернулась. Какие-то домашние еще оставались за столом; сидели вдалеке и привычно молчали.
Чисто религиозных вопросов Андрей, вообще, избегал. Чувствовал, что не справится, только больше запутается. Нет, пусть это лучше в сторонке… Толстовского Бога-Добра он не боялся. Но зато Он и не обещал ему ничего. Теперь Андрей прислушивался к словам Толстого с надеждой отнюдь не на его Бога, а на него самого. Что он знает?
Вот — опять о «я», о том, что смерть уничтожает всякую личность. Так по «здравому смыслу». «А, здравый смысл!», — думает Андрей. Он давно знает, что по здравому смыслу так, и ему неинтересно: ведь тот же здравый смысл утверждает, что ровно ничего, с ним одним, ни знать, ни утверждать нельзя.
Лев Николаевич опять сидел против Андрея. И опять Андрей, с двоящимися чувствами, глядел на знакомое-знакомое лицо, на глаза под хмурыми бровями и слушал его голос. И он кажется Андрею, этот голос, уже не таким устало-однообразным, а теплее, человечнее.
Толстой говорит о жизни. О том, что начал было историю жизни писать, но непосильно это человеку. Столько ужасного, гадкого, тяжелого, злого, — как говорить об этом? Да, вот, если б описать, но с полной правдой, хоть один только день его теперешней жизни…
Теперешней? Как, это он говорит? Человек, который сказал, что нельзя жить, ничего о жизни не зная, и остался жить, и, значит, узнал, как жить? Уж не потому ли с такой горечью говорит он о жизни, что она так же ему непонятна, противна, тяжела, страшна, как всякому его — неустроенная?
Андрей всматривался, всматривался в серьезное, такое человечное лицо — и оно становилось ему все ближе, все роднее. И вдруг, перебив литератора, спросил Толстого, — не о том, с чем ехал, и не как властного «учителя», — а просто спросил близкого человека о нем самом, о его живом отношении к Богу. Оно у него есть, но хотелось еще услышать, обрадоваться, не за себя, а за человека, ставшего навсегда родным.
И навсегда запомнились Андрею слова: «Ничего не знаю, знаю только, что в последнюю минуту скажу Ему: вот я; в руки Твои предаю дух мой. И пусть сделает Он со мной, что захочет. Сохранит, уничтожит, восстановит меня, — это Он знает, а не я…».
С чувством радостной и мирной печали ехал Андрей из Ясной Поляны. Он так и не спросил «учителя», о чем хотел спросить. Но учителя не было. Был живой человек, который всю жизнь искал, и нашел, и узнал что-то; но знает он это для себя одного. Великое, может быть, знание, но только для одного себя, для себя самого. Андрей увозил с собою горячую любовь к Толстому-человеку. Да, он близкий, он несчастный, он, может быть, еще несчастнее Андрея: «знать» только для себя одного — тяжелее, чем не знать ни для кого, не знать вовсе.
Его не надо спрашивать. Его надо только любить.
КАК ЕМУ ПОВЕЗЛО
Рассказ
Не сразу вышло, конечно, не вдруг; но был он терпелив, малодумен, никогда на судьбу не жаловался, — брал, какая посылалась. И, с течением времен, и многие из здешних, из своих, даже поумнее его, стали ему завидовать.
Судьба его, с самого начала, была обыкновенная. Взяли из дому, из села Пролазы, повезли далеко, в город, подучили наспех грамоте, ружью, — и на фронт: в окопах лежать, с немцем воевать.
Дома было у Никиты хозяйство, жена молодая, сынишка уж по хате ползал. Да что будешь делать, велят воевать, значит воюй. О немцах, о Вильгельме, товарищи кругом много болтали, да Никита не разбирался: туг был на размышление, ленив, правду сказать.
Писем из дому не получал, — какие там писаки! Вот кончится это все, кончится война, тогда… он не додумывал, и так было понятно, что потом, когда кончится.
Но война еще не кончилась, а Никиту из окопов вдруг взяли, и с прочими опять в город повезли. Стало слышно, будто составят новый отряд и пошлют за море, «французу помогать».
— Отборных молодцов у нашей державы он требует, — пояснял ихний запевала Федосьев, бойкий парень. — Чтобы подмога им, значит, французам, от нас была.
— Какие это? — спросил Никита.
Федосьев даже удивился.
— Видали дурня? И откуда ты такой взялся, деревня серая! Союзники это, союзные державы. Тебя, гляди, возьмут, ишь видный какой, рослый. Эх, мне бы попасть, посмотрел бы я на французов на этих, какие они есть.
Но Федосьев в отряд не попал, а Иванчука, действительно, зачислили, хотя французами он ничуть не интересовался. Впрочем, он не жаловался: определили — значит, так надо.
Потом все пошло что-то уж очень скоро, одно за другим, все разное, но одинаково Никите не понятное. Не говоря уж, что и путь за море, и люди там, и земля, даже окопы, — все было сразу другое, не похожее, — но и в отряде, меж своих, поднялись неслыханные толки, а вскоре и дела: банты красные понацепляли, галдят, домой будто собираются. Через небольшое время и того пуще: наши, говорят, с немцем замирились, не желаем и мы больше воевать! И пошла форменная ерунда, как вдруг бац! сами французы с немцем замирились, потому что немцы наутек, и война кончилась.
У них ликованье, а наш отряд, хватились, половины уж нет. Может, и переправили кого, а кто самосильно скрылся, — неизвестно. Другим, однако, объявили: отправят восвояси, по желанию, опять воевать: с немцем замирились, да теперь с большевиками пошла война.
Никита сначала подумал, было, что какой-то еще новый народ, большеголовый, показался. Потом другие растолковали кое-как, видит — совсем неладное. Воевать ему ни с кем, однако, больше не желалось; но пока он думал, куда теперь податься, что оно все означает, — судьба сама решила дело: остался ни при чем, от других отбившись, один-одинехонек.
В городе Париже, куда-то его свели, русский незнакомый тут вертелся, через него спрашивали, почему в Россию не поехал. Никита вспомнил, что опять воевать и сказал: «Не хочу». И подумал, как прежде: «Вот кончится война, тогда…».
Еще спрашивали, потом дали бумагу и отпустили.
Так он и остался. Сначала город ихний все соображенье ему спутал: эка людищей! и все какие-то… Потом ничего. Своих нашел. Не из отряда, а так, своих. Много чудного рассказывали. Никита слушал-слушал и пришел, главное, к такому понятию: надо, пока что, работу искать, нечего проклажаться. А то кончится война, кончится ерунда вся здешняя, ему — из нее и выбраться не с чем.
Работы он не боялся; а работы — как не найти такому молодцу! Сперва взялся за тяжелую, — шутя исполнял; потом видит, другие есть, прибыльнее, хитрости же особенной не требуется. Смышлен был на работу, ко всякой машине сразу сноровку находил, точно нюхом. И глаз имел хороший. Автомобили ихние скоро стали ему — пустое дело. И через немного времени приспособился он таксомоторщиком; был доволен, чего еще искать, езди.
Знавшие Никиту, из своих, — дивились: как это он экзамен прошел, улицы запомнил и выговорил? Ведь он, дуралей, о сю пору здешнего разговора не знает, а в грамоте и в своей плох. Никита заверял, что чего надо — знает, и хитрости нет запомнить. Почему нет — объяснить, однако, не мог. Правда же была в том, что, не считая здешний язык за язык, запоминал он слова и названия вроде, как винтики в машине, — только не глазом, а слухом, — и куда нужно, прикладывал. Глазом же запоминал их написанными. Так и запомнил слова, касавшиеся машины, езды и денег; другие ему были ни к чему, — не интересовался.
С таксомоторщиками, со своими, компанию водил, но не близкую. Раза два-три только в русском трактирчике погулял, а то был не пьющий. Да и деньги берег: всякий лишний франк в «кассу» стал таскать, когда ему про кассу объяснили.