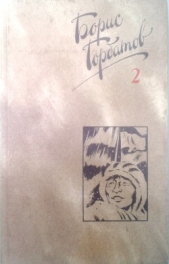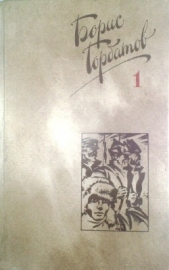Собрание сочинений в четырех томах. Том 4

Собрание сочинений в четырех томах. Том 4 читать книгу онлайн
Том 4 - Рассказы и очерки
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Оттуда, из этой ровной поглощающей черноты, веет холодом бесконечного равнодушия. Оттуда же совершенно неожиданно идут люди, идут нескончаемой живой вереницей. Внезапно выкатываются, мигнув красным глазом, трамваи, выбегают извозчики, и идут, идут люди.
Оттуда же зачинаются дома и плотно, плечо в плечо, тянутся и уходят в другую, яркую, озаренную живыми огнями сторону. Зачинаются и уходят вереницы огней, и говор и звон, краски и линии.
Все-таки так весело!
Сажусь в трамвай, и он, с все повышающимся, испуганно жалующимся гулом быстро побежал к траурной кайме тумана.
Огни кругом потухли. Ни освещенных домов, ни фонарей, ни движущейся толпы. В стекла вагона мрачно глядит мертвая мгла.
Вагон гремит, качается, как будто на одном месте, среди вечной, бескрайной ночи, и странно видеть внутри освещение, когда за черными стеклами ничего нет — один мрак без границ.
Пассажиры сидят, покачиваясь, строго — с неподвижными лицами.
Девушка — белая шея, светлые волосы, шляпа по-особенному, по-молодому. Тонкий румянец, тоже по-особенному, по-молодому...
Я не спускаю восхищенных глаз.
«Сердце бьется тревожно и страстно...»
Она смотрит перед собой. Предлинные черные изогнутые ресницы чуть подрагивают. Сколько чистоты в линиях чистого лба, чистоты наивной, милой, влекущей.
Милая!.. Боже мой, как безумно хочется любви, озаренной, ласковой, чистой…
Чуть приподнялись ресницы, глянули такие же чистые серые глаза. Не улыбка ли на не знающих поцелуя губах?
В стеклах неохватимая чернота, и гремит и качается, как будто на месте, вагон. Все не стирается странность того, что тут лица, потолок, пол ярко озарены электричеством, а за стеклами чернота.
Я ее не знаю. Не олицетворение ли это любви, яркой и прекрасной своей неведомой чистотой, которая бывает только в юности? Отчего же так трепетно бьется сердце?
Она подымается и уходит, тонкая и стройная сзади девичьей стройностью.
Разом делается скучно и одиноко, хотя так же все внутри озарено и неизвестно, где гремит и качается вагон.
Кондуктор по неискоренимой даже в этих обстоятельствах привычке возглашает в дверях:
— Угол Большого и Кривой.
Я выхожу. Но откуда же он знает? Ни Большого, ни Кривой, ни домов, ни фонарей, ни освещения. Одна дымчатая мгла. Трамвай исчезает, и огни его, делаясь коричневыми, как в дыму, тают во мгле.
Куда же идти? Я делаю несколько шагов. Кругом потонул в дымной мгле целый город с многоэтажными домами, с невидимо освещенными окнами, с фонарями.
Не только туман, но и дым разостлался — першит в горле, ест глаза.
У самого моего лица вырисовывается тусклый абрис человека. Протягиваю руку — лошадиная морда, горячие ноздри дышат прямо в лицо, звук копыт. Я отскакиваю в сторону.
Голос:
— Да куда ты везешь? Где мы?
— А кто же его знает... Я почем знаю... Разве тут разберешь?
Беспомощные мерные удаляющиеся звонки трамвая. Слышен треск, стоны, лошадиный храп.
— Ой-ой-ой... Помогите!
— Эй, вытаскивай... тащи его...
— Лошадь мешает... Оттаскивай ее...
Должно быть, пролетку раздробило.
Я блуждаю во мгле. Под ногами чувствую: мостовая. Хоть бы на панель попасть.
Иду с протянутыми во мгле руками. То справа, то слева голоса замирают. Осторожный стук копыт.
— Городовой!..
Но он теперь так же беспомощен, как и все.
Местами мгла чуть белеет светлеющими пятнами, точно невидимая луна с усилиями пробивается. Это несомненно фонарь. Он, наверное, надо мной, но я не найду столба.
— Мама!.. Мама!.. Мама!.. — беспомощно, тоненько, жалобно, как те котята, которых выбрасывают под плетень умирать.
То справа, то слева. Но я ничего не могу поделать. Брожу куда попало и рад, когда натыкаюсь на стены.
А ведь это дома, огромные, сверху донизу наполненные людьми.
— Мама!.. Ма-ма!.. Ма-а-ма!.. — все тише, слабее, с звенящими потухающими слезами.
Я совершенно потерял направление. Должно быть, теперь иду по неизвестной улице. Не слышно трамвайных звонков. А может быть, прекратилось движение.
Иногда сталкиваемся с кем-нибудь животами.
— Извините, пожалуйста.
— Да какие тут извинения!.. Не знаете, какая это улица?
— Не имею ни малейшего представления.
— Ведь это черт знает что! Вот уже два часа никак не могу попасть домой. Да уж хоть бы местность узнать.
Исчезает.
Мгла, то ровная, бесстрастная, то чуть светлеющая вверху, как туманность.
Того и гляди, попадешь в воду. Я слышу слабо — моет где-то у ног и веет сыростью.
Вот оно, непокрытое человеческое одиночество. Хоть кричи, хоть умирай, хоть тони среди сотни тысяч домов. Точно расскочились все связи.
Ага, это мост, под рукой ощупываются перила. Какой же?
Не слышно лошадиных копыт, звонков, замерло огромное движение, только такие одиночки, как я, то появляются, то исчезают в неподвижной густеющей мгле.
Судя по усталости, я брожу часа два-три. Теперь уже ночь, но ничто не изменилось, все та же нерасступающаяся густота с бледными туманностями фонарей наверху, которые сейчас же глотаются чернотой, как только делаешь шаг в сторону.
Милая девушка с белой шейкой и чистым, невинным лбом. Как я люблю ее!..
У меня от усталости ноги подгибаются. Теперь мой номер с искривленно исчахшим узловатым деревом внизу кажется раем. Если бы только добраться.
* *
*
Случайно, доставая полотенце с гвоздя, глянул в потускневшее от времени, точно покрытое мелкой росой, исцарапанное надписями, засиженное мухами зеркало и остолбенел: на меня глянул бледный старик. Вялая кожа в складках, от носа и к углам опустившихся губ две глубокие борозды, землистые тени под лихорадочно воспаленными и глубоко ушедшими глазами. Неужели это я? Не может быть!
Впрочем, неудивительно, — я не вижу горячего уже месяц, не ем колбасы, питаюсь одним хлебом. Не всегда даже пью чай, потому что не каждый раз подают самовар, — задолжал.
Спокойно холодные люди сказали мне:
— Ваша рукопись еще не просмотрена.
— Вы же сами назначили срок месяц.
— Да, но вы не один же тут. У нас тысячи поступают рукописей, а читают только двое. Приходите через месяц. — И он поворачивается спиной, — ему ведь некогда.
Я шел по улице, стиснув зубы. Хорошо, еще месяц, еще месяц муки, терзаний, голода, месяц непрерывно сменяющихся отчаяния и надежды. Да и действительно ему некогда.
Я иду нахмурившись, с все так же стиснутыми зубами, глядя в землю. Город где-то далеко, огромным кольцом шумит и мелькает. Я один среди сотен тысяч домов, среди миллиона людей.
С некоторых пор они стали мне противны своим убийственным однообразием. Посмотрите на эти дома, одинаково громадные, одинаково безвкусные, одинаково примыкающие вплотную друг к другу нескончаемой лентой. И украшения, и подъезды, и окна — все одно и то же.
— А лица? Поглядите вы на них. Все идут и смотрят в одну сторону. И глаза одни и те же, и выражение, и походка, и платье — и все вышло из-под штамповального станка.
И жизнь у них страшная — все нивелирующим подобием: ночью одинаково предаются вожделениям, одинаково пьют, одинаково голодают, по-рабьи работают, одинаково смеются, одинаково умирают. Страшно!..
Хота бы улыбка, хота бы звук, хотя бы носок сапога, хотя бы одно движение человеческой души не как у всех!
Страшный город, проклятый город!..
Светит ли солнце, идет ли дождь, белеют ли снега, все равно, день и ночь — ровная, слепая, одинаковая мгла. И в ней бродят люди, тысячи людей, бродят одинокие люди.
И я.
Из моря звуков, из неумирающего шума, движения, мелькания определяется, растет, ширится и покрывает победным гимном только одно:
— Победителей не судят!.. Не судят... не судят... не судят... не судят!..
— A-а, так не судят... да, да...
У меня кружится голова: не судят!
— Приходите через месяц.
Через месяц.
Я до крови стиснул зубы. К вам поступают тысячи рукописей, а читают их только двое? Не имеете права на это ссылаться. Не имеете права. Трудно? Но вы пользуетесь за это почетом руководителей общественной мысли, общественных вкусов, общественного сознания. На вашу долю выпадает счастье работать не за страх, а за совесть. На вашу долю выпадает счастье выискивать жемчужины творчества, жемчужины таланта, быть может, гения.