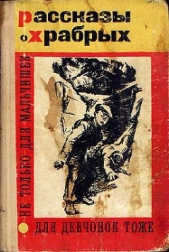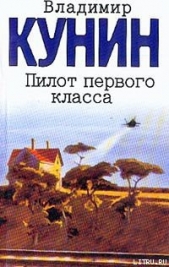Три мешка сорной пшеницы
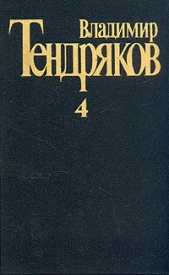
Три мешка сорной пшеницы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мысли метались, не находили ясного ответа.
Душно в избе. У порога сипло, с клекотом дышит натужно спящий странник–убийца. Мальчонка на полатях вздохнул сладостно и тяжко. Он разделался с куском хлеба и сахаром — вздох счастья и сожаления.
Женька не спит. Путаница в Женькиной голове.
Страдая от бессилия, Женька повернулся лицом к степе и… уснул: мгновенно, крепко, как засыпают здоровые люди, которым едва–едва перевалило за двадцать.
9
Адриан Фомич, погромыхивая тяжелой связкой ключей, отомкнул огромный замок, разогнул его заржавевшие челюсти.
— Вот еще сюда…
Председатель колхоза занимался, в сущности, нелепым делом — показывал уполномоченному колхозные закрома. А они были отменно чисты, попахивали слегка пыльцой, даже в щелях не найдешь ни зернышка. Адриан Фомич водил Женьку от амбара к амбару, отмыкал неподатливые замки. Ничего не попишешь, так надо, Женька обязан потом с чистой совестью отчитаться: осмотрел все, убедился — чисто, ни зернышка.
На него надеются — хотя бы тонну хлеба, чтоб было за чем прислать машину. Тонну?.. Даже мыши сбежали, до того чисто.
А только что в это утро Женька пережил унижение. Евдокия к завтраку напекла картофельных оладий. Подрумянившаяся картошка лежала на черном, с отливом в рыжину и в зелень хлебе, точь–в–точь по виду напоминавшем свежий коровий навоз. «Вот она, травка–то…» Перед Женькой положили сельповский хлеб.
— К нашему привыкать нужно, сразу–то его не уешь.
Женька во время отступлении дно подели питался одними лишь сырыми бураками — только сырыми! Его желудок не способен был, пожалуй, переварить лишь железные гвозди. Трава, что ж, едят же ее другие. Даже интересно, какого она вкуса. Должно быть, никакого, недаром же говорят: «пресный как трава». И он храбро откусил.
Нет, печеная трава не была безвкусно–пресной. Липкая каша, которую он взял в рот, резко пахла гнилостным, перебродившим запахом. Человек — всеядное животное, и Женька был не самый привередливый из людей, но… не выдержал, припадая на раненую ногу, выскочил па крыльцо.
На крыльце сидел странник Митрофан в своем рваном малахае, в бабьем платке вместо шапки и уплетал из рукава такую же оладью из травы.
И на глазах–то этого Митрофана–убийцы Женька перегнулся через перильца…
— Кхе–кхе! Оскоромился…
Сейчас его водят по амбарам, где по–чердачному пахнет пылью.
— Головой не стукнись, тут низко.
Последний амбар. Адриан Фомич как–то неловко отвел взгляд в сторону, бескровное лицо его бесстрастно.
В углу под стеной куча. Женька сначала подумал — мусор, мякина. Перевалился с раненой ноги на здоровую, шагнул к куче, зачерпнул горсть и сразу же покрылся испариной — пшеница, тощая, сорная, дурно провеянная, по пшеница.
Старик бесстрастно смотрел в сторону и молчал.
Мешка три, если не меньше. Жалкая куча сорного зерна. Ее не прячут, иначе бы держали не в общественном амбаре. Унеси в любой дом, положи на поветь, накрой сеном — кто б тогда ее нашел? Прежние уполномоченные — а сколько их прошло здесь до Женьки? — наверняка знали об этой куче.
Адриан Фомич негромко произнес:
— Весна будет. Сеять придется.
И Женька ухватился за его слова:
— На семена оставили?
Адриан Фомич покачал головой:
— Какие же это семена — сор заметенный.
Да он, Женька, не хуже старика знал, что и Нижнеечменском районе забрали на госпоставки все, даже семенной фонд.
— Весной людям работать, — продолжил спокойно Адриан Фомич. — Много ли, сам посуди, на траве наработаешь. Вот все, что сберег, весной по горсточке выдавать буду… Работникам…
Женька ковырял палкой в куче: «Что ж ты мне, старик, показываешь? Я же обязан эту пшеницу сдать! Для того и приехал — найти резервы. Резерв…» Но ничего не сказал, тихо высыпал из горсти зерно в кучу, вытер ладонь о шинель. После сорной пшенички почему–то жгло ладонь.
Три мешка не спасут ни государство, ни авторитет приезжей бригады, ни самого Женьку. Если он отсюда ничего не вывезет, ни одной горсти — поругают за неактивность для порядка, но каждый поймет — уж коль нет, то и не родишь. Если же привезет всего три мешка — будут смеяться: вот, мол, это размах. И никогда он не простит себе, если отберет эти последние три мешка зерна пополам с сором.
— Да, — вдруг торопливо заговорил Женька. — Да… Весной вам круто придется. Пошли.
«Для работников, для тех, кто закладывает новый урожай. Разве не резонно?..» Знакомый командир хозвзвода старшина Лядушкин частенько говорил: «Приказ начальства для нас — закон. А закон — что телеграфный столб: перешагнуть нельзя, а обойти можно».
Они вышли из амбара под мелкий дождичек, сеявшийся на пустынную деревню Княжицу.
10
В конторе правления, в простенке рядом с отрывным календарем, забыто висит пожелтевший портретик — седой нестриженый человек с чопорно–горделивым лицом в подслеповатых очках. Отрывной календарь меняют каждый год, а портрет бессменен, повешен, быть может, во времена зарождения колхоза «Красная нива». И как он попал сюда, в деревню Княжицу? Женька еще в школе любил почитывать стихи, только потому и угадал — изображен на портретике поэт Тютчев. Тот самый, кто написал песню: «Я очи знал, — о, эти очи! Как я любил их, — знает бог!..»
Случайно занесло сюда Тютчева, случаен и Женька. Самое разумное — встать бы сейчас, взять палку и… даже лошади бы не просил, пешком бы, хромая по грязи, из Княжицы, из Кисловского сельсовета, из Нижиеечменского района…
Хлеба нет, в амбарах даже запах чердачный. Нет хлеба — наглядно, как бывает наглядна сама пустота. Что тебе здесь делать, товарищ уполномоченный?..
До сих пор ты видел войну в лицо: освещенные луной улицы разбитого Сталинграда, улицы — что долины среди диких, выветренных скал, скованная льдом речка Царица, заваленная смерзшимися в корчах трупами, закопченные горбы печей на углищах — степные хутора… А теперь погляди вот на эту войну сзади, с затылка: тихие–тихие, словно вымершие деревни без мужиков: подавляюще просторные — «зернышко оброни» — поля, переставшие рожать; лепешки на столах, похожие на коровий навоз…
Он, Женька, не волен взять палку и уйти, его командировочное удостоверение выписано на две недели. Ты словно дал служебную присягу, нарушение ее приравнено к дезертирству.
А можешь ли ты сказать во всеуслышание правду, простую, как капля дождя, очевидную, как грязь на дороге, безнддежную, как осенняя погода? Хлеб надо еще вырастить, а на выращивание урожая уходит целый год, две командировочные недели тут никак не помогут.
Женька глядит мимо портрета Тютчева в окно. «Я очи знал, — о, эти очи!..»
За окном — дождь не дождь, просто мокрота, за окном — осень–сверхсрочпица. Всего–навсего осень, впереди долгая зима, весна, лето — ох, как далеко до нового урожая!
Адриан Фомич сидит рядом, не снимая шапки.
— Может, бумаги посмотришь?.. Документацию о сдаче, — предложил он. — У нас каждая справочка подшита.
Хлеб заменить канцелярскими бумажками!
Командировка выписана на две недели!..
За низеньким оконцем мелькнула тень, прочавкали быстрые шаги, простучали по крылечку, бухнула входная дверь.
— Кто там — кладовщица или Симка–счетоводка? — погадал равнодушно старик.
Нет, не Симка и не кладовщица. В шерстяной шали, втиснутая в подростковое пальто — талия узкая, бедра распирают, — стуча солдатскими кирзовыми сапогами, вошла Вера.
— Здрасте вам! — счастливым голосом. И белозубая улыбка, и лицо мокрое, исхлестанное ветром, и мокрые, слипшиеся ресницы, и сияние под ними.
И Женька, сам того не ведая, тоже расплылся от уха до уха. Не ждал и не верил, что такое чудо возможно — «здрасте вам!». Такой вот шальной клыкастенький оскал бывает у молодых добрых собак: «От избытка чувств даже куснуть могу, но вреда не сделаю». И чопорно глядит с простеночка засиженный мухами Тютчев: «Я очи знал, — о, эти очи!..»