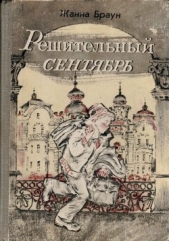Путешествие души [Журнальный вариант]
![Путешествие души [Журнальный вариант]](/uploads/posts/books/188315/188315.jpg)
Путешествие души [Журнальный вариант] читать книгу онлайн
Повесть "Путешествие души" рассказывает о человеке, прожившем долгую жизнь в Москве, пережившем и испытавшем все, что пережил и испытал наш народ. Повесть отличает философский настрой, социальная направленность, глубокий психологизм, присущие всему творчеству писателя. Опубликовано в журнале Новый Мир №№ 1-2 за 1991 год.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Брат, затаив дыхание, выглядывал из-за занавески и, только убедившись, что улица пуста, уходил на цыпочках в глубину комнаты и жмурился в улыбке, показывая всем язык.
Душевная болезнь брата, толчком для которой явились обыкновенные подсолнушки, с каждым днем прогрессировала, припадки отчаяния и страха стали учащаться, и однажды его увезли с работы на Канатчикову дачу, а потом перевели в пригород, в Подосиновку.
Оттуда он приезжал иногда на побывку, жил тихо и смирно под слезно-радостным присмотром несчастной матери, но потом вдруг сам, что-то предчувствуя, собирался, тихо прощаясь со всеми, терпеливо и грустно наклонял голову для материнских поцелуев и уходил с вещевым мешком, уезжал в свой загородный дом, на дачу, как печально шутил он, находясь в здравом расположении духа.
Болезнь эта была неизлечима.
Однажды Вася вместе с матерью ездил к брату.
Возле печальной больницы собирались молчаливые люди, встречая тихими улыбками своих больных с серыми остриженными головами, разглядывая их без всякой надежды, как если бы это были осужденные на пожизненное заключение.
Брат застенчиво потрепал Васины волосы, поцеловался с матерью и, серый, одутловатый, с опухшими глазами, покорно пошел за матерью на деревянную скамейку, стоявшую в пыльных акациях.
Был жаркий день. Коричневые, зрелые стручки, которыми были усыпаны кусты акаций, трескались под лучами горячего солнца, и этот электрический треск, казалось, имел какое-то странное отношение к землисто-серой, поблескивающей ранней сединой голове брата, будто этот треск все время раздавался в ней, отчего на лице его блуждала отрешенная улыбка.
— А этому-то... — сказал брат, когда мать развернула перед ним салфетку с пирожками и клюквенным морсом, постелив ее на узкой скамейке. — Опять ему привезли... эти самые... — Брат смял лицо в улыбке и вопросительно взглянул на мать, пугая Васю своей непохожестью на того брата, какого он знал раньше. — Ты что ж, не знаешь? Я рассказывал тебе! — обиженно воскликнул Саша. — Палач! Он расстреливал... всех... Ему опять привезли сорок бутербродов. Он злой. Разложит бутерброды и считает... До тридцати досчитает и сбивается... Ох уж тогда! Кричит! И опять считает, — говорил он со смехом, надеясь вызвать смех и у матери. — Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь... А потом опять сбивается! Никак не может до сорока досчитать. — Брат умолк и, уйдя в себя, тихо забормотал, озираясь по сторонам с загадочной хитрецой в мутноватом взгляде: — Это он никак сосчитать не может, скольких он расстрелял... До тридцати сосчитает, а потом сбивается и кричит от злости.
— Попей морсику, Шура, — говорила испуганная, как и Вася, встревоженная мать, отвлекая несчастного сына от странного его рассказа. — Кисленький.
А вот твои любимые пирожки с грибами... А вот эти с мясом. По-моему, получились пирожки, не подгорели. И тесто хорошо подошло.
Брат отвлекался с послушанием примерного ребенка и начинал старательно жевать пирожки, запивая их морсом из фаянсовой кружки. Вася почему-то со страхом слышал, как стучат его зубы о край, и с удивлением наблюдал, как текут струйки морса по подбородку, затекая по шее за ворот серой, застиранной нижней рубашки, завязанной на груди такими же серыми тесемками.
Несмотря на свои шестнадцать лет, ему было так страшно тут, что он ничего не видел, не слышал и хотел лишь одного — побыстрее уехать отсюда и никогда больше не ездить сюда. Но мать промучила его до заката, рассказывая равнодушному сыну все, что могла только вспомнить, и они уехали домой последними. В дороге мать плакала, словно ехала с похорон сына. А Вася сидел и хмуро смотрел в окно, зная, что он больше никогда не поедет в эту Подосиновку. Он тоже словно бы похоронил брата, смирившись с неизбежным.
Но он еще не знал, что истинные похороны впереди и что те, грядущие похороны будут ужасны и неправдоподобны, как кошмар.
Излом белых заснеженных плоскостей крыш подчеркивал загадочность и тайну человеческого разума, настроенного на нужность того или иного сооружения — курятника или загончика, сарайчика для борова. Хозяин всех этих деревянных сооружений чувствовал себя среди тесных пространств, как ученый в своей лаборатории. Он делал шаг и знал, что тут ему надо повернуться боком, чтобы протиснуться между частоколом и дощатой стеной, а тут надо нагнуть голову, чтобы не удариться об угол крыши.
Теперь, когда все это было засыпано плотным, крепко промороженным снегом, особенно четко проглядывалась целесообразность каждого сооружения.
Черно-белый двор, штрихи частокола на снегу, зловонная тьма распахнутой двери, во тьме которой грубо похрюкивал боров, белые куры, которые на снегу казались лимонно-желтыми, — все это было заключено в обнесенное частоколом пространство, которое было как бы тем местом, где жизнь свила себе гнездо и где одна жизнь, выращивая жизнь другую, поглощает эту другую, воспроизводя ее опять и опять, чтобы на новом витке снова поглотить ее. Это был не просто участок для жизни и удовольствия человека, а это был участок для многих жизней, гибелью своей и кровью кормящих друг друга.
В морозный день декабря к этому деревянному и теплому островку жизни подошел озябший, зеленовато-серый, задыхающийся человек в драповом пальто и в черной котиковой шапке, мех которой был вытерт до коричневатых проплешин, словно съеденный молью. И лишь опущенные уши шапки чернели нетронутым лоском котикового ворса. Нос у человека был узкий и розово-холодный. Глаза, остуженные морозом, безумовато поглядывали на зловонную дыру, откуда доносилось хрюканье.
— Хозяин! — надрывно крикнул человек. — Хозяин! Кто-нибудь есть? Але! Хозяин! Можно на минутку?
Из тьмы сарайчика, из-под навершия косого проема, обметанного инеем, показалась голова старика с тяжелым лицом. Он молча вперился в нежданного гостя и в глазах его Темляков заметил испуг.
— Хозяин, прости, пожалуйста! — взмолился Темляков. — Брат у меня... в больнице... умер. Мертвый лежит уже три недели... Понимаешь? Похоронить надо. А как? Ни лома, ни лопаты... Выручи, пожалуйста, прошу тебя... Никто не верит. Обошел уже много дворов, никто не дает, не верит. Что же мне делать-то? А я обязательно принесу. Ты поверь мне, ради Бога! Похоронить надо брата. Совсем выбился из сил. Разве я знал! Я бы из дома взял и лом и лопату... Не знал.
Он умолк, в надежде глядя на угрюмого старика, который вышел из тьмы. Коряжистый, некрасивый, кривой весь какой-то, как корчеванный пень. Был он безбородый, безусый, в стеганых ватных штанах, в которые словно бы врос, не снимая никогда. Что-то в его лице дрогнуло, заслезилось добротой и сочувствием. Он что-то сказал или откашлялся — Темляков, погибая от холода, не расслышал.
— Что вы сказали? — переспросил он, перейдя на вы. — Я не понял...
Старик подошел к ограде, хрипя прокуренной глоткой:
— Как расписано в етий бумажке?
— В какой бумажке? — не понял его Темляков.
Старик вздохнул и сказал:
— Не умер он...
— Как же не умер?! — испуганно возразил ему Темляков. — Я его сам... Там их много... Замерзшие все... в сарае. Еле узнал. Больной он был. Умер...
— Так-то и умерли? Говоришь, много... Много, конечно. Что ж они, все так и умерли? Не умерли они. Побили их, когда немец близко подходил. Как тварей бессловесных, а они все ж таки люди. Кричали. Я сам слышал, кричали, когда их колотушками... кто чем... по голове... Как бычков.
Озноб, который бил Темлякова, вдруг утих, будто кровь вскипела в жилах. Он только теперь с ужасом понял, о чем говорит старик.
— Ну да, ну да, — сказал он. — Я думал... но не мог... Я не поверил... У него на голове, вот тут, — показал он на свой висок, ткнув в черное ухо варежкой. — Синий рубец... Чернота... Ну да! Ну да! — словно заговариваясь, повторял он. — Ну да! Конечно, война... Ну да, но... Немцы, конечно, но... Кричали, говорите? Боже мой! Что же мне делать? Мне говорят: вон, ищи своего. А их там целый штабель, как бревна, как дрова... Ну да! — спохватился он, задыхаясь. — Теперь понятно. Да, да! Я понял. А что же мне делать? Теперь я понял... Я хоть и догадывался, но думал, может, печи не топили, заморозили, они уснули навеки... А вы говорите... Неужели колотушками? Ах, Господи!

![Путешествие души [Журнальный вариант]](/uploads/posts/books/188354/188354.jpg)