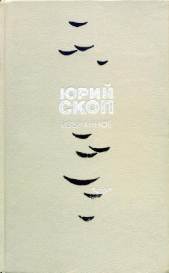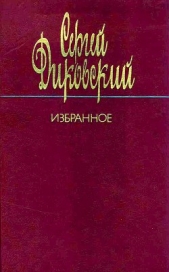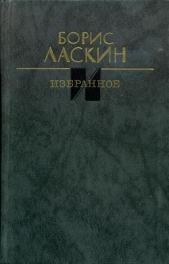Избранное
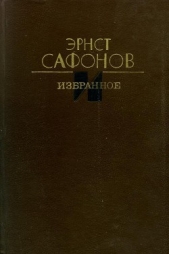
Избранное читать книгу онлайн
В книгу известного писателя Э. Сафонова вошли повести и рассказы, в которых автор как бы прослеживает жизнь целого поколения — детей войны. С первой автобиографической повести «В нашем доне фашист» в книге развертывается панорама непростых судеб «простых» людей — наших современников. Они действуют по совести, порою совершая ошибки, но в конечном счете убеждаясь в своей изначальной, дарованной им родной землей правоте, незыблемости высоких нравственных понятий, таких, как патриотизм, верность долгу, человеческой природе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Поиграли, — хрипло сказал Ефрем, — готовь, Полина, харч в дальнюю дорогу за казенный счет… Запрокурорят тебя, дуру, лет на пяток… закон знаешь!
Тут Полятка заплакала, стала руки Ефрема ловить, прощенья просить, он оттолкнул ее; матерясь, велел подобрать все до зернышка, на ток отнести…
— Ну нар-род! — крутил головой, усаживаясь в тарантас, и никак дрожащими пальцами цигарку не мог свернуть.
А все ж простил Полятку — никто ее никуда из деревни не увез.
Однажды на рассвете проснулся Ваня, уколотый щетиной чьего-то заросшего лица, — проснулся, сжался в комочек, долго век не размыкал, не веря еще…
— Когда ж ты у меня такой большой вырос? — тихо спрашивал отец. — Здравствуй, Иванушко.
Открыл глаза — худого, остроносого и очкастого человека увидел, в белой бязевой рубахе он, синих галифе, и во рту у него зубов почти нет. Не папка, может?
— Папка, — плача и смеясь, счастливо говорит мать, — папка наш вернулси-и-и!..
И закрутилась разноцветная карусель, все поплыло, заиграло на разные голоса, все понеслось и поехало, просторно стало и холодно до мурашек на спине, и розовый свет за окном показался праздником, — папка вернулся!
Отцовский китель с узкими серебряными погонами висит на спинке стула, а на стуле — офицерский планшет, еще пистолетная кобура из кирзы, и в кобуре пугач для Вани, точь-в-точь как настоящий милицейский наган с барабаном, — и стреляет пробками! Ба-бах!.. Сначала Ваня раза три выстрелил, потом отец… бах-бах-бах!.. И дым, и огонь высверкивает…
— Деревню перепугаете, — говорит мать, — избу сожгете, оглохну я!
Так она говорит, а хочет, наверно, сказать: стреляйте, стреляйте! Спряталась за печку — крепдешиновым платьем, выходным, шуршит, из флакончика на себя одеколоном брызгает… Голос у нее высокий, радостный, хотя и рассказывает отцу о нерадостном.
— Приятеля твоего, Сереженька, — доносится из-за печки, — лесничего Егорушкина, без обеих рук привезли, при одной ноге…
— Да ну?!
— А Мишка Сонин, писала тебе вроде, Сереженька, погиб…
— И Михаил?!
Отец морщится и кривит лицо; Ваня, обследовав его китель, не нашел, чего хотел, — спрашивает, пугаясь:
— Где же медали твои?
— Нет медалей, — отец руками развел.
— Одни, что ль, ордена? Спрятал?
— Одни ордена, — поспешно соглашается отец.
— Ты кто у нас? Диверсант?
— Диверсант он, господи, пристал, липучий… диверсант, — вмешивается мать, выйдя из-за занавески; разнаряженная вышла, никогда ее Ваня такой не видел, даже ленточка у нее в волосах; и она стоит, смотрит на отца, а он на нее, она смотрит, и он смотрит; наконец отец взялся очки протирать, а Ваня сказал ему:
— Где же зубы ты потерял?
— Цинга съела, — ответил отец. — Не вырастут — железные вставлю.
— Красиво будет, — рассудил Ваня.
— Живенький мой, — ласково говорит мать, — живенький…
— Живой, — отец подтверждает; кончиками пальцев потрогал брови у матери. Покашлял.
— Живенький, живенький, — упрямо повторяла мать.
Ваня после затишья снова — неожиданно за спиной у матери — выстрелил из пугача. Мать ойкнула, схватилась за грудь; отец обнял ее за плечи.
— О ума сойти, Сереженька, — закрыв глаза, еле слышно произносит мать.
Собрались, как водится, изо всех тринадцати подсосенских дворов; вынесли стол на улицу, под старую липу. С липы на стол падают зажелтевшие от бездождья листья и зеленые мохнатые червячки, тоже порожденные сушью. А на столе — кто что принес с собой и чем Алевтина Демидовна, мамка Вани, расстаралась: даже две банки американских консервов есть — видом как деревенский холодец, и творог в мисках, грибки соленые, простокваша в кринках и еще другое, что можно пить, — в разных посудинах. Ване в кружку квасу налили, забористый квасок — вырви глаз! С кем не чокался? Ваше здоровье!
Громче всех кричит дед Гаврила — сивая бороденка на сторону сбилась, размахивает стрелкой зеленого лука, внимания к своим словам требует. Сам он костлявый, уколоться об него можно, а слова его — круглые, мягкие, вроде бы даже покрашенные они, как пасхальные яички.
— Бгатцы! — взывает дед. — Я за всех скажу!.. Все мы тута и ты, Сеггей Годионыч, с нами, такая всенагодная любовь тебе оказывается… А еще скажу я…
Так, букву «р» не признавая, помнят подсосенские старики, граф Шувалов говорил. И считают в округе: Гаврила — он графских кровей, незаконный только, нагулянный Шуваловым, потому и привез тот его сюда, к немцу Карлу, подальше с глаз…
— Ггаждане, — беспокойно зовет дед Гаврила, — товагищи!
— Ти-хо, вы!..
— Говори, дедушка…
— Вот я и говогю… Што в войну-то? Забудешь? Их похогонных одиннадцать штук извещений для нас было!.. А игде сын мой?! Игде?!
Дед Гаврила томится — горячим пеплом подернулись его тоскливо отрешенные глаза; бабы сморкаются, а одна из них встала и слепо пошла в сторону, в неясную тень вечера.
— Лизавета! — тихо окликнул дядя Володя Машин.
— Да, да! — встрепенувшись, отозвалась она, убыстряя шаг, удаляясь. — Иду, иду-у!..
— Куда идешь-то, — снова тихо сказал дядя Володя, — до Сталинграда, знать, далеко, Лизавета…
А у отца, замечает Ваня, такой светлый взгляд, что сумрак позднего часа не загасил его лица, оно выделяется среди других приметным подвижным пятном, и отец жадно разглядывает каждого; он сидит во главе стола, тощий, с приподнятыми плечами, а мать крепко уцепилась за рукав его кителя, будто боится, что он уйдет. Поднявшись, отец говорит, покашливая, про великую победу, про то, что лучшие сыны России остались лежать на поле брани, и наш долг, говорит он, принять на себя все, что уже не суждено сделать им и что обязаны сделать мы сами для восстановления нарушенной жизни… Он говорит, что, возвращаясь в родные Подсосенки, заглянул в райотдел народного образования, решил там все необходимые вопросы, дети будут учиться, и это великолепно, когда утром зазвенит школьный звонок, возвещая о начале спокойного трудового дня, — пусть привычно и громко звенит наш школьный звонок!..
Послышалось тарахтенье тарантаса, он выкатился из полутьмы на видное место. С тарантаса соскочил председатель колхоза Ефрем Петрович Остроумов, разнуздал жеребчика, бросил ему беремя свежескошенной травы… Он идет к столу: осветившие небо багрецы отраженно полыхнули по его орденам и медалям, и очень весел скрип его хромовых сапог. Он сказал, вглядевшись, шутливо и старательно выговаривая слова:
— Здравия желаю, товарищ младший лейтенант административной службы! С прибытьем!
Обнялись отец с Ефремом, троекратно расцеловались. А дядя Володя Машин, отвернувшись, заиграл на гармони, залпом выпил из стакана и, продолжая играть, запел тонким, срывающимся голосом, как какой-нибудь прохожий инвалид, которому в шапку нужно бросить:
Жалостная песня; Ваня потихоньку к отцу пробрался, возле него пристроился, и Майка откуда-то вывернулась, рядом со своим отцом села, больно ткнула Ваню ногой под столом, он ей отплатил — зачесалась, заерзала, и еще не так ей, злючке-гадючке, надо, побольней бы, чтобы не орала днем, что его, Ванин, отец старик, ему целых сорок лет…
— Отвоевались, Сергей Родионыч!
— Так, Ефрем… Я, конечно, сбоку… В тайге, в экспедициях находился. Топограф. Трудно было, замерзали, два товарища моих замерзли, цинготный голод к тому ж, а дело делали.
— Тыл — фронту!
— Не совсем, Ефрем, я ж военный был… Однако не в окопах, понимаю…
— Кому-то надо… А мы повоевали!