Сочинение на вольную тему
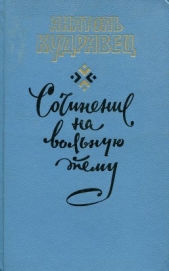
Сочинение на вольную тему читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Меня же радовало то, что вышло так, как я и думал. Гелька не могла поступить иначе. Сердце мое полнилось гордостью: разве есть еще где-нибудь такие девушки, чтобы из-за них стрелялись командиры? Жаль, конечно, что стрелялись они насмерть. Лучше бы они вышли в лес, взяли наганы и стреляли в мишень. Можно было даже в портсигар, поставив его на пень. Отойти шагов на тридцать и стрелять. И кто лучше будет стрелять, кто точнее попадет в цель, с тем Гелька и пойдет. А то на вечеринке, в хате, никто ничего и не увидел. И совсем уж несправедливым казалось то, что и второго командира собирался судить партизанский трибунал. За что его судить? Что ему нравилась Гелька? Так она всем правится. А эти вечеринки и все это — просто так. Потому что у Гельки есть жених, настоящий, наш. Тогда в Липнице еще никто не знал, что Гелькин жених лейтенант Леонид Кривошеев еще год назад погиб смертью храбрых под Ленинградом.
Гельку в селе до конца войны не видели.
Объявилась она неожиданно и уже как городская — форсистая, с накрашенными губами и завитыми волосами. И юбчонка на ней была намного короче, чем у наших деревенских девчат, и вся она была какая-то нервно-быстрая, подвижная, и смеяться старалась громче других, и разговаривать на «городской» манер, перекручивая «деревенские» слова.
Мне запомнились ее неестественно громкий смех и новая привычка мотать головой, словно она хотела что-то стряхнуть с волос. «Ой, умру», — говорила она, резко поводя головой по сторонам, и волосы ее пружинили и взлетали волнистым веером. Что-то фальшивое было в этом «умру», и во всей ней, и было жаль ту, прежнюю Гельку. Правда, я мало задумывался над этим: у меня были свои хлопоты. Уже было другое время, я ходил в школу, и надо было добывать деньги на тетради, учебники — собирать и продавать грибы и ягоды, драть, сушить и сдавать лозу. И я без острой душевной боли слушал, с каким злорадством перемывали Гельке косточки наши бабы и девчата тем летом.
Спустя несколько дней после приезда Гельки домой мать отправила ее пасти корову. Коров тогда в селе было еще немного, и постоянного пастуха не было, каждый пас свою и где хотел: травы хватало. Гелька пасла корову в кустах далековато от дома, и их застиг ливень. Это был один из тех редких ливней, которые налетают внезапно и дают столько воды, что ее хватило бы на целый месяц спокойных дождей.
Гелька прибежала домой такая промокшая, что на ней рубчика сухого не было. Мать дала ей переодеться и, хотя за окном все еще лило, строго спросила: «А где же корова?» И услышала в ответ: «Карова бяжала через прясла да брац у гразь». — «Что?» — не поняла мать. «Карова бяжала через прясла да брац у гразь…» — повторила Гелька. Мать мало чего поняла из этих слов, одно ей было ясно, что коровы нет, а скоро вечер, и что Гелька как будто насмехается над матерью, ломает язык, — она взяла в руки скалку и указала дочери на дверь: «Я тебе покажу и брац, и гразь, попробуй только вернуться без коровы».
Искать корову Гельке не пришлось, корова пришла домой сама, переждав ливень в лесу под елкой. И, кажется, никого постороннего не было в хате во время разговора матери с Гелькой, но с того дня, как только кому хотелось подколоть Гельку, всякий начинал с этого: «Карова бяжала через прясла…», перевертывая каждое слово так, как Гелька никогда не смогла бы. Чего тут было больше — желания поиздеваться над человеком или проучить его за то, что так быстро и легко отказывался от своего родного, — неизвестно, но Гелька на это как будто и не обращала никакого внимания. Погуляла недели две, посмеялась: «Ой, умру»… — и опять махнула в город.
Вернулась жить в Липницу она так же неожиданно, как и уехала. Правда, вернулась не одна — с высоким белокурым парнем, Василем, с лица которого никогда не сходила довольная сытая усмешка. Вдобавок к молодой мужской силе он имел удивительно красивые белые зубы и усмехался всегда, даже и тогда, когда ему говорили неприятное и когда уже другой размахивал бы кулаками. Эта усмешка запомнилась всем хорошо.
Рядом с двором старого Питера пустовали чужие сотки, и колхоз отдал их молодой семье. Спустя какой-то год там уже стояли хата, хлев, истопка, а из болотистой земли зябко тянулись вверх хилые деревца молодого сада. Все это была Питерова работа — старик из последних сил старался для дочери и зятя.
Зять как-то сразу стал финагентом, ходил по деревням, собирал налоги, страховку, займы. Вряд ли кто может вспомнить Питерова зятя в селе с косой или граблями, но все хорошо помнят его с финагентовской сумкой. Свою работу он выполнял самозабвенно, все с той же неизменной белозубой усмешкой.
Старый Питер покинул этот свет тихо, незаметно, похоронили его, и спустя какое-то время люди стали замечать, что у зятя и покойного тестя есть одно удивительное сходство. Если у кого затевалось застолье — родины, крестины, свадьба или даже похороны, он всегда появлялся в самый пик его, и всегда ему находилось место где-нибудь неподалеку от хозяев. Пил и ел он много, но никогда не бывал пьяным и никогда не забывал главного, с чем приходил, — свою сумку.
Строгие финагентовские обязанности иногда заносили его далеко от Липницы, он не успевал возвратиться домой засветло и оставался ночевать там, где застала ночь, — то в одном, то в другом селе. Гельку это поначалу злило, но что она могла сделать? Погода всегда непостоянна: то снег, то дождь, а работа у Василя ответственная, и если он не мог добраться домой днем, то кто же отпустит человека в далекую дорогу ночью. Тем более что на руках у него сумка с деньгами и документами. И чем чаще не ночевал Василь дома, тем спокойнее становилась Гелька. А тут как раз приехали в село военные заготавливать дрова, и молодой лейтенант выбрал их хату себе для квартиры.
Случилось это тогда, когда Василь находился в одном из тех дальних сел своего обхода, откуда обычно добирался домой суток через двое, трое. Еще по дороге к дому ему сообщили про квартиранта, довольно откровенно намекнув, что, мол, не только ты умеешь облагать налогом яблони и ульи. Гляди, придешь в свою хату, а твое место уже занято. И тебя обложили. Гелька твоя — девка что надо.
Василь выслушал это спокойно и, показав, как обычно, белые зубы, ответил:
— А что то за дерево, если на него и ворона не садится?
Что он думал на самом деле, неизвестно, но весь тот месяц, пока военные заготавливали и возили дрова, ночевать всегда возвращался домой. А когда солдаты со своим лейтенантом уехали, Гелька несколько дней не показывалась на люди. Говорили, что под глазом у нее то ли чирей вскочил, то ли синяк.
О том, что Гелька с Василем уехали из Липницы, я узнал, будучи в армии. Их отъезд меня не удивил, уехали, значит, так надо. Тем более что налоги, которые собирал Василь, были давно отменены, и он со своей финагентовской профессией, видимо, не мог найти работу. Умерла и Гелькина мать, старая Питериха.
Это было то бойкое время, когда многие и из Липницы, и из других соседних сел начали срываться с насиженных мест и ехали кто в Караганду, кто в Донбасс или Карелию за конкретной, живой копейкой.
Неизвестно, кто из липневцев первым решился на такой шаг, но, прижившись на шахте, в городке под Карагандой, потянул за собой и других односельчан. Где-то среди них была и наша родня: тетка со всей своей дружной семьей из двенадцати человек. Попали туда и Гелька с Василем.
Василь, слышал я, пошел работать на шахту. Это меня немного удивило, и я подумал, как мы иногда ошибаемся в своих суждениях о людях. Вот Василь — финагент, а не побоялся полезть в шахту. А Гелька… Гелька — жена своего мужа, мать детей. Наверное, тоже нашла какую-то работу по себе.
Так думал я, так говорили односельчане — из тех, что выехали, а в село приезжали теперь как гости, в отпуск. Гелька с Василем в Липницу не приехали ни разу.
Несколько лет назад случилось так, что дела неожиданно забросили меня в Казахстан. Было это летней порой, и из-под крыла самолета степь напоминала затвердевшую бурую корку испеченной в деревенской печи буханки хлеба.


























