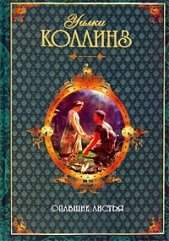Атланты и кариатиды (Сборник)

Атланты и кариатиды (Сборник) читать книгу онлайн
Иван Шамякин — один из наиболее читаемых белорусских писателей, и не только в республике, но и далеко за ее пределами. Каждое издание его произведений, молниеносно исчезающее из книжных магазинов, — практическое подтверждение этой, уже установившейся популярности. Шамякин привлекает аудиторию самого разного возраста, мироощущения, вкуса. Видимо, что-то есть в его творчестве, близкое и необходимое не отдельным личностям, или определенным общественным слоям: рабочим, интеллигенции и т. д., а человеческому множеству. И, видимо, это «что-то» и есть как раз то, что не разъединяет людей, а объединяет их. Не убоявшись показаться банальной, осмелюсь назвать это «нечто» художественными поисками истины. Качество, безусловно, старое, как мир, но и вечно молодое, неповторимое.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ольгу, которая не боялась ни крови, ни мертвых, охватил такой ужас, что на короткое время она будто потеряла сознание. Во всяком случае, какой-то миг ничего не видела, не слышала. Только перед глазами плыла муть, не снежная, не белая — кроваво-красная и зеленая.
А потом... потом страстно захотелось обязательно спасти хотя бы одного из этих несчастных. Если бы в тот миг ей сказали, что для спасения любого из них она должна пожертвовать своей жизнью, она пошла бы на это.
Лена кинулась к колючей проволоке, закричала пленным:
— Авсюк! Есть Авсюк? Позовите, пожалуйста. К нему пришла жена! Жена! Господин начальник! Фрау! Жена! Адам!
Караульный, казалось, не слышал ничего, не обращал внимания, но когда Лена схватилась за проволоку, он наставил на нее автомат и коротко, будто дал очередь, сказал:
— Цурюк!
Только когда Лена крикнула: «Адам!», до Ольги дошло, что Лена без ее согласия так договорилась с пленным, заранее решив, что заберет его как мужа она, Ольга, и никто другой. Потому и просила ее так настойчиво. При других обстоятельствах поведение Лены ее возмутило бы, но сейчас ей хотелось только, чтобы Лена нашла того человека.
Пленные молчали. Это были новички, не знавшие никого из старожилов и вообще не освоившие еще тайных лагерных законов, лагерной солидарности. Никто даже не пошевелился, чтобы пойти искать Авсюка.
Лена двинулась вдоль проволоки и уже называла другую фамилию — Харитонов, возможно, настоящую фамилию того человека, в отчаянье со слезами просила, чтобы кто-нибудь поискал Владимира Харитонова.
А Ольга, приблизившись к самой ограде, смотрела на двоих. Они стояли шагах в трех от нее, такие же неподвижные, как все, и очень не похожие друг на друга. Высокий с виду лет под тридцать мужчина, заросший черной бородой, смотрел с надеждой, с мольбой, с жадностью голодного и с верой, что он один имеет право на жизнь, на спасение. Сосед его, ниже ростом, очень худой, был совсем юноша, у него и борода еще не росла, а потому пожелтевшее лицо точно светилось. И глаза странно горели, голубые, издали были видно — голубые. Смотрел он без надежды, но с каким-то радостным, детским интересом, будто увидел, неожиданно открыл совсем иной мир, иных людей, каких никогда и не мечтал увидеть, и это дало ему величайшую радость перед смертью. Он надсадно закашлялся, отчего в глазах его засверкали слезы, а щеки болезненно заалели. Кашляя, он прикрывал рот ладонью, будто находился в хорошем обществе и стыдился своей слабости, потом поправлял закрученную на шее черную обмотку так, как, наверное, поправлял когда-то красивый шарфик. После того, как он закашлялся, словно стесняясь этого, Ольга смотрела только на него, другого не видела.
— Женщина, возьми меня, я все умею делать, я столяр, слесарь, сапожник, — глухим, простуженным голосом попросил бородатый, когда караульный отошел в сторону.
Но Ольга уже знала, что взять она может только молодого, который кашляет и весь светится, как святые мощи, и который, безусловно, еще одной ночи в этом холодном аду не проживет. Она попросила его глазами: «Скажи что-нибудь, хотя бы одно слово». Он сказал:
— Меня не бери. Я ничего делать не умею.
Тогда она закричала, будто опомнившись, закричала так, что охранник, до этого неторопливо-спокойный, стремительно повернулся к ней:
— Адась! Адасечка! Родненький мой! Что же с тобой сделалось? Бедненький мой! А тебя же доченька дома ждет! — И показала караульному так, как учила ее Лена: — Пан! Пан! Муж! Муж!
Прибежала Лена, бродившая вдоль ограды. Увидела, что Ольга показывает на совсем постороннего человека, непонимающе, удивленно, испуганно и даже сердито посмотрела на подругу: зачем она ломает их план?
Юноша растерялся, даже отступил, будто хотел спрятаться за спины других. Да его выручил бородатый — начал тормошить, как сонного, бить по плечу, отчего тот болезненно передергивался.
— Радуйся! Черт! А-дась! Авсюк! Счастливчик!
А к Ольге моментально вернулись ее обычная энергия, проворство, изворотливость, смелость — все, чем она славилась среди комаровских торговок. Не обращая внимания на растерянную Лену, она начала тут же действовать так, как учила ее подруга. Подбежала к проходной, позвала начальника.
Вышел немец, говоривший по-русски с польским акцентом. Она объяснила, что нашла своего мужа и просит отпустить его домой, совала свой паспорт, показывала штамп загса о браке.
— Комиссар?
— Что вы, пан начальник, какой он комиссар! Четыре класса кончил. Трамвай водил.
Потом подумала, что о том, где работал Адась, не стоило говорить: ведь если спросят у того несчастного, он об этом не сможет сказать и все обнаружится, сам себя загубит и ее подведет. И она принялась твердить, что муж ее на заводе работал простым рабочим. Почему-то была уверена, что тот парнишка городской, а если городской, то уж наверное работал на заводе. Со слезами рассказывала, что родители ее умерли перед самой войной и она осталась одна с маленьким ребенком. Заголосила:
— Кто же ее кормить будет, мою сиротиночку?
Немец слушал терпеливо, внимательно, напряженно всматривался в ее лицо, стремясь, видимо, понять, правду женщина говорит или лжет. Выслушал и заключил:
— Нельзя. Он воевал против немецкой армии и должен понести наказание.
— Да разве же он по своей воле? Погнали его. Сталин погнал!
Она наслушалась на рынке, где гремели громкоговорители, фашистской пропаганды и знала, чем можно завоевать у гитлеровцев расположение. Но на охранника, который ежедневно видел тысячи смертей и, конечно, сам убивал или отсылал людей на смерть, ничего не действовало. Или он просто набивал цену, потому что на корзинку ее, покрытую рушником, посматривал не без интереса. Когда он повернулся, чтобы уйти, Ольга вдруг упала перед ним на колени и заголосила громко, по-бабьи, как голосят по умершему. Это, возможно, произвело впечатление. Охранник повел ее в барак. В комнате, в которой грела чугунная печь и было душно, представил Ольгу толстому начальнику, по-военному коротко доложив о ее просьбе. Потом уже по-свойски они что-то обсуждали и смеялись, будто забыв о ней.
Ольга ждала со страхом, стоя на пороге. Ее охватил ужас, когда толстый, повернувшись к ней, расстегнул ремень и снял френч, оставшись в одной коричневой рубашке, которую широкие подтяжки прижимали к толстым, как у бабы, грудям.
Лихорадочно кружились мысли, но выхода не находилось. Отбиваться — смерть неминуемая, это не полицаи, которым можно было дать тумака или неопределенно пообещать. Неужели нужно пережить страшное насилие, чтобы спасти человека? А как отступить? Как спасти себя?
В рот будто ваты сухой напихали, и она никак не могла проглотить эту вату. Печь чадила, от духоты и чада кружилась голова. Подумалось, что лучше уж потерять сознание, — может, это остановило бы насильников или, во всяком случае, она бы ничего не видела, не чувствовала. Зажмурила глаза, готовая упасть. Но страшного не случилось, судьба была милостива к ней. Она услышала знакомые уже слова: «Вас ист гир?» — и открыла глаза.
Фашист стоял перед ней и толстым пальцем показывал на корзинку. Обрадованная, Ольга наклонилась, отвернула рушник и выхватила бутылку водки, взболтнув, показала наклейку:
— Московская!
— О, московски! — Толстый схватил бутылку, подбежал к тому, что говорил по-русски, и долго что-то весело разъяснял ему, поворачивая бутылку и повторяя то «Москау», то «Московски» — почти по-русски.
А Ольга, осмелев, подошла к забрызганному чернилами, некрашенному столу и начала выкладывать из корзинки сало, колбасу, сыр, блинчики, которые утром напекла из пшеничной муки.
Толстый, как кот, обошел вокруг стола, осмотрел принесенное, плотоядно облизнулся, но тут же сморщился и покрутил головой.
— Мало, — сказал переводчик.
Ольга полезла за пазуху, достала платочек, зубами развязала узелок и протянула два золотых червонца, царские.
У немца загорелись глаза. Схватив золото, кинулся к френчу, который висел на спинке стула, достал из кармана очки, долго и уже молча, без смеха и слов, принялся рассматривать червонцы. Потом повернулся к переводчику и крикнул что-то, как будто ругнулся: