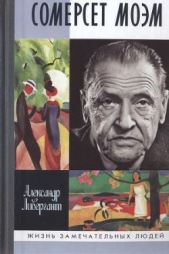Ожидание (сборник)

Ожидание (сборник) читать книгу онлайн
В книгу «Ожидание» вошли наиболее известные произведения В.Амлинского, посвященные нашим современникам — их жизни со сложными проблемами любви, товарищества, отношения к труду и ответственностью перед обществом: романы "Возвращение брата", "Нескучный сад" и "Борька Никитин".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он ругался, сначала ожесточенно, потом горестно, и уходил.
Она так тихо лежала, что не по себе становилось. Жива ли?
Я видел, что она и не лежит, а, согнувшись, сидит на кровати, опустив лицо, чуть покачивая поседевшей головой.
Над высокой кроватью висела их увеличенная свадебная фотография.
Она и Федор, еще в гимнастерке, год сорок шестой.
Когда мы уезжали, она достала домашнего вина, верно, настойка эта вишневая давно лежала в подвале, хорошее было вино, видно, ее Федор толково понимал в этом деле. Мы выпили по стаканчику и простились.
Мы уходили с пожитками своими к проселочной дороге ловить попутку и, оборачиваясь, видели, что она стоит у низкого плетня.
Далеко мы уже отошли, и все отдалялась высокая, плоская фигура, как бы плыла, чуть темнела в беспощадном дневном мареве. Один раз мне показалось, она подняла руку: то ли махнула на прощание, то ли перекрестила перед дальней дорогой.
Помнится, мы еще долго крутились по деревням, останавливались на денек, ночевали. Никому, конечно, не нужны были наши рисунки, а вот руки были нужны: собрать, потаскать сено… В этих воронежских деревнях, теплых, зажиточных, было нам привольно всем, не только Борьке, в деревне выросшему, но мне и Сашке.
Было у меня такое чувство, что я уже был здесь когда-то, что спал на этой прогретой за день соломе, сложившись вчетверо под тулупчиком или продранным, с торчащей ватой одеялом, что уже были эти рассветы, прохладные, розоватые, с острыми и теплыми запахами листвы, земли, жилья, с первыми человеческими голосами, с выпрыгивающими неизвестно откуда и скачущими над твоей головой курами.
Это странная вещь, ощущение давней знакомости жизни, которой ты не жил, впрочем, может быть, в сибирской деревне Ивановке, куда бабушка привезла после тяжкой болезни, в военные времена было что-то похожее. Помню, что меняла она отцовские вещи на молоко. И я, больной, пил его, парное, сладковатое, поначалу неприятное, потом привычное, необходимое, пьешь так, чтобы ни одной теплой капли не пролить, не потерять.
А может, и не давняя детская явь рождала это ощущение, а откуда-то из дальней прадедовской жизни были эта земля, запах тепло-кислой овчины, ветерок, идущий будто бы от листьев корявой липы, и сквозь их просвет все светлеющее, все поднимающееся вверх утреннее небо.
Каждое утро я просыпался с ощущением тайной надежды. На что? На то, что б у д е т, д о л ж н о б ы т ь что-то очень важное, единственное, меняющее всю жизнь.
А было ли что? Если вспомнить как следует, то, может, только и было существенного само это ожидание в каждом дне, с каждого первого проблеска света, включавшегося в жизнь сознания, с того мига, как ты ощущаешь себя ожившим, прозревшим.
И это, может быть, и было главным тогда — ожидание.
Вечерами, под водительством Борьки, мы шли на «мотания». Именно так назывались в тех краях танцы под гармошку.
Недавно только кончилась эпоха патефонов. Была эпоха радиол. Но эти гремящие радиолы с одной-двумя надоевшими пластинками вскоре смолкали, и напротив старенького клуба на вытоптанной площадке начинались «мотания». Парней было значительно меньше. Уходили в армию, в город. В основном пацанва лет пятнадцати — шестнадцати. Поэтому нам, приезжим залеткам, не было конкуренции.
Борька, приглядевшись, приглашал самую глазастенькую и самую лучшую. Потом уж мы вступали в дело.
Я помню красивую девушку Валю, она все время спрашивала, поглядывая на меня: «Вы так считаете?»
Не помню, что я уж там считал, только помню, что она была стройная, крепенькая, говорила врастяжку и не поймешь, где шутит, где всерьез.
И когда я поцеловал ее, она не вырывалась, не сопротивлялась, а только заметила: «Это вы со всеми так?»
— Нет, — удивился я. — Почему со всеми? — И тут же, дразня ее, добавил: — А может, и со всеми.
— А еще художник, — сказала она.
Допоздна мы ходили, она то робела, то смелела, я вел ее, слабо упиравшуюся, к реке, там на холодной земле обнимал, чувствуя все более прерывистое дыхание, удивительно свежие и податливые губы; но это не долго длилось: вырвалась она резко, неожиданно, побежала, я догнал ее, и уже молча мы шли позади двух понуро удлиняющихся теней.
До самого дома она не дала проводить. Посмотрела серьезно, даже сурово:
— Вы дак завтра отъедете, а нам тут жить.
Когда она догадалась, что именно завтра мы собираемся уезжать?
А уезжать не хотелось… Остаться бы здесь на день или на неделю. А может, на год. Навсегда.
Но надо ехать дальше, никакого «навсегда». Навсегда только прощание, вся жизнь — цепь маленьких прощаний, маленьких «навсегда».
И еще помню, как протянула она мне руку, как улыбнулась и вдруг, блеснув глазами, озоровато просияв лицом, спела чистым, сильным, сдерживаемым из-за позднего времени голосом, это была местная частушка:
Меня милый провожал,
Провожал до мостика.
А я милому сказала:
«Ты — мартышка с хвостиком».
Назавтра мы сели в попутный грузовик, бросили свои рюкзаки и покатили дальше.
И сколько раз я все-таки вспоминал эту девушку и думал, что вернусь в эту деревню, что как-нибудь, мимоходом, судьба забросит; не вернулся, не забросила. Ведь и ничего не осталось в этой деревне, ничего и не было, а так тянуло туда.
Но только слово «навсегда» осталось, видимо, точным.
Из Новых Лисок мы добрались до Ростова, там пожили два дня и оттуда решили рвануть на юг. До занятий еще оставался месяц.
Пассажирский поезд останавливался надолго, в Туапсе все выскочили и, торопливо суетясь, забыв даже снять майки, лезли в море.
Мне не хотелось так, я даже не выходил. Наша первая встреча с н и м должна быть другой, слишком долго я ее ждал, где-то я вычитал: «У того, кто впервые видит море, открывается половина души».
И потому, уже после приезда в Батуми, я дождался, пока мои друзья уснут в сырой комнатенке, столь непохожей на жилое помещение, в каменно-холодной, узенькой, как ниша в скале, с мокрицами и гигантскими тараканами. Комнатенка эта даже нас, готовых к любому неуюту, радостно принимавших неустроенность, любивших дух скитаний, легко плативших эту неосознанную плату молодости, — даже нас она изумила.
Они заснули, а я выскочил из комнатки, побежал узенькими улочками, мимо белых одноэтажных домов. Тогда еще немного было двухэтажных грузинских домов с внешней лестницей на второй этаж, с гаражами.
Домики той поры были крепкие, одноэтажные, не у многих домов стояли похожие на больших мышей «Победы». Все это я замечал мимоходом, новая реальность, чужая действительность удивляла, отпечатывалась в сознании, фиксировалась как бы механически.
Но главное, что я чувствовал, что вызывало сердцебиение, было приближающееся мощное дыхание чего-то огромного и живого.
Наконец я увидел е г о.
Штормило. Впрочем, «штормило» я подумал, — именно так следовало говорить и мыслить о море. У берега оно закипало, накатывалось, подползало к ногам. Поразили простор и запах. Зазывный и одновременно гибельный размах: войди — и останешься. И запах — солоноватый, поразительно свежий, дразнящий гортань и ноздри. И несовместимая с этим будничность почти пустого берега, несколько голых тел, какая-то пара, уснувшая двухспинным бутербродом, никто не купался, вяло загорали на уже вечернем солнце.
Потом, уже в институте на этюдах, мы писали пейзажи, маринистские этюдики.
Мастер говорил: пробуйте передать образ природы, не копируйте, пытайтесь донести до меня ее сущность, вспоминайте то, что видели, но рисуйте таким, каким почувствовали. Всякий раз море выходило у меня роковым, античеловеческим.
Если лес виделся чем-то слитным с человеком, то море готово было забрать человеческую жизнь, всегда, в любой момент, в его природе и красоте виделась мне гибельность.
Не знаю, с чего это у меня пошло, — с мальчишки, который купался в то лето вместе с нами каждый день и утонул? Через несколько дней его нашли и вытащили.
— Ну и что? — говорил мне мой Мастер. — Да, тонут и замерзают в лесу, в снегу, так что же — изображать снег враждебным человеку? Нельзя так воспринимать природу. Художник не может ее так видеть. Человек уничтожает человека, а природа не уничтожает, она берет к себе снова.