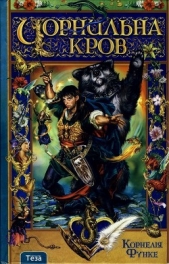Потерянный кров

Потерянный кров читать книгу онлайн
Йонас Авижюс — один из ведущих писателей Литвы. Читатели знают его творчество по многим книгам, изданным в переводе на русский язык. В издательстве «Советский писатель» выходили книги «Река и берега» (1960), «Деревня на перепутье» (1966), «Потерянный кров» (1974).
«Потерянный кров» — роман о судьбах народных, о том, как литовский народ принял советскую власть и как он отстаивал ее в тяжелые годы Великой Отечественной войны и фашистской оккупации. Автор показывает крах позиции буржуазного национализма, крах философии индивидуализма.
С большой любовью изображены в романе подлинные герои, советские патриоты.
Роман «Потерянный кров» удостоен Ленинской премии 1976 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, знаешь, тебе надо руки целовать, моя ласточка, — сказал Культя, когда они, потные, замурзанные, слезли с хлева. — Котелок варит. Я бы порядком башку поломал, как тут все устроить, чтоб тебя сквозняк.
— Всю ночь думала, Пятрас. Потом — с таким делом не первый раз сталкиваюсь.
Культя, не понимая, посмотрел на Аквиле.
— Мы с отцом русского солдата прятали. Летчика. И теперь думала бежать к отцу.
— Русского солдата? — Культя даже ахнул от неожиданности. — Вот это номер, чтоб вас сквозняк! Русский солдат у Вайнорасов…
— Нашла в лесу. Привезли. Но, видно, ему было суждено погибнуть… — Аквиле задрожала, схватила Культю за руки. — Пятрас, Пятрюкас, вы же видели… Скажите, как Марюс? Я боюсь, как бы не воспаление легких…
— Главное, не ранен. Выходим. А нога… Вроде не страшно. Скорей всего кость ушиб, — успокоил Культя. — Говоришь, значит, русского летчика?.. Советского… А я-то думал, ты… Как можно иногда промашку дать, чтоб их сквозняк! Вот оно как. Не пара тебе Пеликсас Кяршис, совсем не пара…
Культя жалостливо улыбнулся, погладил Аквиле по плечу, и она, неожиданно разревевшись, бросилась к нему на грудь.
— Ну, не плачь, все обойдется, — бормотал он, одной рукой неуклюже похлопывая ее по трясущимся плечам, а другой, двупалой, вытирая слезы. — И меня проняло, моя ласточка, но не стыдно: когда человека считаешь за пустышку, а потом видишь, что он — настоящий, сам тоже как бы заново рождаешься. Такой праздник не каждый день бывает, чтоб его сквозняк.
— Я Никогда о вас плохо не думала, Пятрас. Поверьте мне, никогда! — всхлипывала Аквиле. — Мать… Кяршис… так уж все сложилось…
— И я больше про тебя худого думать не буду, Аквиле. Ну, не плачь, а? Оставим-ка слезы до тех времен, когда других забот не будет. А сейчас нам нужны твердость и ум, чтоб их сквозняк! Помни: если дознаются, то не одна голова Марюса полетит с плеч. Пойми, какую гору взвалила на свою спину. Не хочу думать о Кяршисе хуже, чем есть, — он человека не утопил, — но по нынешним временам никому нельзя сердце открыть. Гляди в оба. Когда один знает тайну, она еще тайна, когда двое — пол-тайны, а когда больше — тайны и в помине нет. Я тоже забегу проведаю, предлог найдется. И ты дай знать, если что. Но слишком часто встречаться опасно: фашистские холуи давно на меня косо смотрят.
Успокоив и подбодрив Аквиле, Культя для вида малость обстругал доски, которые показал Кяршис, и, бросив их в сарае у верстака, ушел домой.
Аквиле поймала во дворе курицу пожирней и мигом отрубила голову. Пока дурочка ощипывала, она поставила воду, еще раз сбегала с настоем трав к Марюсу, затем обе с дурочкой взялись кормить скот, потому что настанет вечер, пока Кяршис перетрет мешок солода. Покончили с кормежкой, закусили на скорую руку, а когда курица сварилась, Аквиле дала Юлите и Лаурукасу по кусочку, остальное спрятала в чулане. Там же поставила и кувшин с бульоном. И снова побежала на сеновал, к больному, которому становилось все хуже. Марюс лежал поперек постели, сбросив с себя перину. Он что-то лепетал, изредка кричал, да так громко, что сердце заходилось от страха. Слезла, постояла на сеновале — прислушалась, потом сходила в хлев, послушала еще у стены снаружи — криков вроде не было слышно. Все-таки расплакавшись и расцеловав его, завязала ему рот платком, а чтоб не смог сбросить перину, закутала его и обмотала вожжами, которые Кяршис ссучил прошлой зимой для весенней пахоты.
Возвращаясь в избу, прихватила из кучи хворосту (Юлите уже успела намять картошки), залила кипятком мякину и смешала в сенях корм для свиней, а то дни в конце ноября куцые — скоро и вечерняя кормежка.
Пока она хлопотала, приехал Кяршис. Голодный, усталый, злой. Увидев перед собой миску с четвертушкой курицы, сглотнул слюну, но тут же поморщился:
— Яйца теперь на вес золота…
— Зарезала вот. Не несется, — виновато пробормотала Аквиле. — Да что-то с души воротит.
— И-эх, и правда… — Кяршис сразу просиял. — Тебе же есть надо! Режь ты этих кур, не слушай, я просто так… Новых разведем. И-эх, чтоб из-за курицы… А мне не надо, могу и сала. Не мужская это еда.
— Хватит и мне, не бойся. Оставила. Только не знаю, съем ли, — что-то кишки скрутило.
— И-эх, вот беда-то, — забеспокоился Кяршис. — Вчера сосет, сегодня крутит. Ты бы травок каких наварила!
— Пила. Пройдет, ничего. Бывает.
— Должно пройти. Правда, а как Культя? Сделал работу?
— Начал, да не кончил. Мальчик прибежал и позвал. Дома нужен был.
— А как же, — снова помрачнел Кяршис. — Известный мастер начинать и не кончать. А как же. Поковырялся час, а посчитает полдня. Может, и обед ему дала?
— Не дала, не дала. Могу курицу принести и показать. Вся. Без этого кусочка. Еще Юлите с Лаурукасом по крылышку досталось, — ответила Аквиле, едва сдерживая злость.
Кяршис смутился.
— И-эх, будто я что говорю… Но раз взялся за дело, то кончай. Почал борозду и жми до конца. А не можешь, так не начинай. Такое уж у меня понятие… Ага, — помолчав, продолжал он, обсасывая куриные косточки и время от времени вытирая руки о штаны. — У Джюгаса-то дела неважнецкие. Хотел немца перехитрить с поставками, а вишь, как оно получилось. Попрут с хутора — и иди побирайся. А то и хуже будет. Думал, коли есть у него крест, то может маршировать, все бросятся на колени, как перед ксендзом с дароносицей. А немцу наплевать на литовские кресты, у него свои есть — железные. И-эх, нечего про чужую беду болтать, и тебя она, может, подкарауливает, но если кто сам под топор лезет, то не грех и потолковать, чтоб этим и себя и других предостеречь. Ходит человек туча тучей. Гедиминаса третий день дома нет. Говорит, сам его услал, чтобы немцы за поставки не забрали. Да кто там знает, как оно на самом деле. Может, уже в тюрьме сидит. Один остался, как отшельник в пустыне. А ведь хозяйству глаз да глаз нужен! Скотину покормить, самому поесть. Хоть кричи, как в той песне: «Сам сварю да сам нажарю, сам натру картошки». Да, худая жизнь у него, господь не миловал. Была семья, в избе человек на человеке сидел. И вот те на — ни детей, ни жены, и матушка померла. Сидит за столом один, как в лесу. И-эх, смотреть тошно.
— Хороший человек, — говорит Аквиле. — Мне он был как родной отец. Будет минутка, забегу проведать: может, помогу чем.
— Да, да, надо, — согласился Кяршис. И, помолчав, добавил: — Хороший, говоришь? И-эх, частенько бывает, что хорошему шкуру дубят.
Когда управились с вечерней кормежкой скота и Кяршис, как всегда последним, притащился в избу, Аквиле снова сбегала на сеновал. В ящике буфета, к своей величайшей радости, она нашла несколько завалявшихся таблеток, которые могли помочь больному. Теперь растворила две штуки в отваре чабреца и, раздвинув ложкой зубы, влила снадобье. Марюс горел, как в огне, был потный, хоть выжимай. Сквозь слезы, едва видя, что делает (фонарик висел на стенке), обтерла ему лицо, прошлась полотенцем по всему телу и, снова завязав ему рот, убежала в избу, пока ее не хватились.
Постелила себе снова в горнице. Кяршис сумрачно посмотрел на нее, но не сказал ни слова. Только утром, когда она, как всегда, готовила завтрак, а он, обуваясь, курил первую цигарку, обмолвился, что слышал, как ночью она ходила: и-эх, чего тут стесняться — кишки так кишки. Часы с железным нутром — и то, бывает, портятся.
Аквиле постаралась улыбнуться, казаться бодрой и свежей, но не получилось — вторую ночь подряд без сна. Перед самыми третьими петухами вроде бы вздремнула, вернувшись от Марюса, но лучше бы она не засыпала — сон был сплошным кошмаром. То она бежала к Культе, а его не было дома, то находила его, но он хохотал, напялив форму немецкого солдата, то видела Марюса с завязанным ртом, обмотанного вожжами, вроде огромной гусеницы, в расширенных глазах которой застыла смерть. Колесо бреда вращалось, повторяя одни и те же видения, и, проснувшись после одной из таких картин, она подумала, что миновала целая вечность, хотя прошло всего несколько минут.