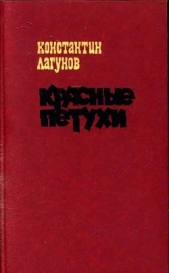Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая

Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая читать книгу онлайн
Роман освещает неизвестные ранее эпизоды гражданской войны на Дону, организацию красных кавалерийских частей, разгром белого движения. В центре романа — жизнь и судьба выдающегося красного командарма и общественного деятеля, первого Инспектора кавалерии — Ф.К.Миронова, боровшегося с «расказачиванием» и перегибами ревкомов но отношению к среднему казачеству. Роман построен на документальных материалах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да никогда бы Крюков не сочинил, не выдумал при всей изощренности писательской фантазии того, что услышал в ответ! А говорила-то соседка его, старая казачка отнюдь не злого нрава, с которой Федор Дмитриевич едва ли не каждый день вежливо раскланивался и, помнится, однажды христосовался даже на светлое Христово воскресенье... И что же она сказала, повернется ли язык?
— И-и, милая, закричишь дурным голосом! Приехал энтот идол, писака-то проклятый, в очках, от самого Каледину, ай не слыхала? Нагнал на их страху, на офяцерьев да на вахмистра, вот и кинулись пытать да казнить людей! Проклятый! Да чего же с них спросишь-то, бла-го-родны-и!..
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...» — подумал тогда Федор Дмитриевич. Руки задрожали, долго искал в шкафчике валериановые капли, но пить их не стал, захотелось вдруг умереть. Так-таки чтобы разорвалось сердце в клочья, и поскорее...
«Нет, не нагонял я на них страху, Акимовна! — хотелось крикнуть на всю улицу. — Не нагонял! А порядок и мобилизация — это ради вас же, чтобы вы, дрянь и сволочь, шли в строй, защищали животы свои от чуждого нашествия, не уклонялись от долга и совести! Нет, Акимовна, и спал мирно и видел приятные сны, а вы сами тут довели дело до экзекуции и вот теперь виноватых ищете не в собственном прикорытном убожестве и не где-нибудь поблизости, в понятном вам окружении, а прямо в литературных кругах, среди чуждых вам «писак»! Но ведь эти «писаки» за вас же, было время, и на каторгу шли! И Каледина давно у нас нету, он застрелился сам, глядя на вас, проклятых!»
(Порой Федор Дмитриевич пугался сам себя: можно ли было предположить хотя бы год назад подобную ярость его к соседке Акимовне, «воплощению народной правды», и подобный слог?..)
В тот раз он не умер, прожевал, так сказать, немыслимо оскорбительную аттестацию соседей, пошел, скрепя сердце, в правление. Вмешался...
Как раз выпороли уже троих, вывели к скамье, называемой обычно кобылой, четвертого, чахлого от лихорадки подхорунжего (а после Февраля выборного командира 3-го Донского казачьего полка) Григория Бахолдина. На бывшего георгиевского кавалера жалко было смотреть. Крюков отозвал в правление подъесаула Сухова, руководившего экзекуцией, и высказался насчет того, чтобы прекратить порку.
— А вы за них ручаетесь в таком случае? — холодно спросил потный от усердия подъесаул.
— Ручаться не могу, но... может выйти от этого обратный эффект, — сказал Федор Дмитриевич. — И почему — всех? Даже этого, Бахолдина?.. У него — полный бант Георгиевских крестов, перед ним во фрунт надо стоять, а мы... Притом он — выборный полковой командир, для казаков это будет очень обидно.
— Командир у них был Голубинцев, а Бахолдин только выборный председатель полкового комитета... Потом, правда, Голубинцеву пришлось скрыться, хотели они его укокошить, — объяснил подъесаул Сухов. — А вот насчет Георгиевских крестов — это уж точно, мораль... Лучше уж в тюрьму его закатать, мерзавца. Вы ведь знаете, Федор Дмитриевич, они с Блиновым — тоже Георгия, подлец, носил! — не только полковое имущество, сбрую и фураж, но даже и духовой оркестр Миронову в Михайловку отдали!
— Это было в пылу тогдашней неразберихи, никто не знал, как быть и что делать, — сказал примиряюще Федор Дмитриевич. — Лучше отправьте его в округ. Послушайте доброго совета.
Порку приостановили. Потом Бахолдин сидел в усть-медведицкой тюрьме. Генерал Краснов, приступив к обязанностям атамана, выпустил из тюрем нескольких георгиевских кавалеров, «по неразумию скатившихся к большевикам», в том числе и Григория Бахолдина... И что же? Этот лихорадкой заеденный казачишка тут же перебежал к Миронову и мгновенно выздоровел! Теперь там командует кавалерийским дивизионом в полку бывшего офицера Быкадорова!
Такова правда, от которой никуда не уйдешь...
В Усть-Медведицкой Федор Дмитриевич, между прочим, пытался пожурить полковника Голубинцева за то, что вырубили сад Миронова и загадили дом холерой и карболкой (мол, красные в моем доме все же держали штаб батальона, а не мертвецкую!), но Голубинцев на эту тему даже разговаривать не стал: «А что вы можете предложить, Федор Дмитриевич, конкретного в этом смысле?»
Конкретного он предложить ничего не мог. Что вообще можно предлагать, если жизнь сошла с колеи и человек потерял себя?
В годину смуты и разврата, как говорится...
Пни срубленных яблонь сочились уже который день корневыми соками и плакали...
Федор Дмитриевич возвратился с прогулки раньше обычного времени, на вопросительный взгляд сестры и хранительницы своей Марии бросил коротко: «Не гуляется, тоска!..» — и начал за столом листать и пересматривать старые записи и дневники. Надеялся там, в прошлом, отыскать какую-то поддержку, светлую мысль, здоровое чувство.
Бегло исписанные листы прекрасной, орленой бумаги, наброски и записи на полях корректур и обрывках газет, десяток дешевеньких блокнотов «под карандаш» и стихи в прозе — почему-то на нотной бумаге: «Во дни безвременья, в годину смутную развала и паденья духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной...» Мысли, заметы — то горестные, то саркастические, редко усмешливые, беспечные, — цитаты из Бунина, которого все они, младшие собратья если не по возрасту, то по перу, боготворили за талант и не любили за чудовищное высокомерие, академический апломб, пещерное самолюбие... Ах, Иван Алексеич, Иван Алексеич, сколько напрасного-то было в нашей жизни, сколько ненужного, куда уходили силы и нервы-то?
И — слова, слова, слова. И — не за что спрятаться, утолить душевную тоску, смятенность сердца. Везде, во всем, чуть ли не в каждой строке и даже за нею, за строкой, извечный минор, предчувствие неизбежной расплаты за непосвященность в мирские судьбы, за созерцательное безделье, упоение природой до экстаза, за какую-то поистине преступную безмятежность ума — нет, не лично писателя Крюкова (это бы еще куда ни шло!), а того просвещенного круга, который стоял за ним и, будучи ответственным за судьбу Отчизны и народа своего, был, по сути, оторван от мира, не понимал его путей и заблуждений, даже вражеской опасности изнутри.
Но предчувствие — во всем.
Даже в описании проводов на войну, в картинках мобилизации (дневниковая запись, которая могла стать и страницей повести, рассказа) сквозило это странное ощущение безысходности:
«...В тумане тусклыми пятнами расплылись неподвижные огни. И было черно у вагонов, не разберешь — вода, снег, земля. Слышались фырканье лошадей, говор по вагонам, детский плач. И так этот детский плач звучал странно сквозь фырканье лошадей, и медную трубу, и басовитый говор казаков. В одном песня текла, ровная, красивая, в несколько голосов, подлаживался женский голос. И было в ней что-то скорбно-сладкое, заветное, прощание с родиной, закутанной теплым влажным туманом... «Садись к нам, стряпухой будешь». — «Да я скрозь с вами бы согласилась ехать, чем как тут оставаться».
«Дежурный по сотне!..» — хрипловато кричит есаул в серой папахе, похожий на Тараса Бульбу. «Дежурный по сотне!» — откликается голос рядом и дальше подхватывает новый: «Дежурный по сотне!» И перекатывается, бежит зов по вагонам. Звучит сигнал. Звонок бьет два раза. «Отойдите, бабы! Бабы! Старики, отойдите дальше с путей! Да отойдите, вашу мать!» — «И чего орет, черт! Кубыть не знают! Вот уж начальника бог послал! С иным начальником и умереть не жалко, а этот знает одно — орет... Чтоб ему голову свернуть где-нибудь».
И темнеют фигуры у вагонов — бабы в нагольных и крытых шубах, казаки в дубленых тулупах. Детишки кучкой — к отцу. Подошел Митрий — бородатый, большой, руки по швам. На лице его складки глубинной скорби: у него пять человек детей — никто не провожает. «Ну, простите, Ф. Д.». Кланяется в ноги. Пробегает Лагутин...»
Здесь Федора Дмитриевича будто обожгло. Он совсем забыл об этой сценке и этой записи... Забыл! А было все это четыре года назад, и вот словно какая вечность прошла, отмахнула черным крылом все прошлое в недоступность, в небытие. Лагутин. Иван... Бежавший на посадку вслед за Дмитрием... Стал после Февральской революции председателем казачьего комитета у большевиков сначала в Питере, потом в Москве и вот уже три месяца, как расстрелян в подтелковской группе за Доном, засыпан красным суглинком, а может, и легким черноземом, у Пономаревского хутора станицы Краснокутской... А? Что же это было? Как пережить все это в душе?