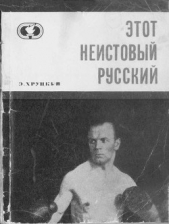Русский лес (др. изд.)
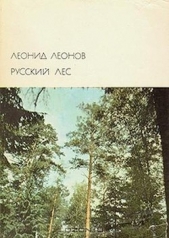
Русский лес (др. изд.) читать книгу онлайн
Леонид Максимович Леонов за выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и создание художественных произведений социалистического реализма, получивших общенародное признание, удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.
Роман Леонида Леонова “Русский лес” — итог многолетних творческих исканий писателя, наиболее полное выражение его нравственных и эстетических идеалов.
Сложная научно-хозяйственная проблема лесопользования — основа сюжета романа, а лес — его всеобъемлющий герой. Большой интерес к роману ученых и практиков-лесоводов показал, насколько жизненно важным был поставленный писателем вопрос, как вовремя он прозвучал и сколь многих задел за живое.
Деятельность основного героя романа, ученого-лесовода Ивана Вихрова, выращивающего деревья, позволяет писателю раскрыть полноту жизни человека социалистического общества, жизни, насыщенной трудом и большими идеалами.
Образ Грацианского, человека с темным прошлым, карьериста, прямого антагониста нравственных идеалов, декларированных в романе и воплотившихся в семье Вихровых, — большая творческая удача талантливого мастера слова.
Вступительная статья Е. Стариковой.
Примечания Л. Полосиной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Утром Иван Матвеич отослал жене первые деньги для дочки, а пашутинскому лекарю — письмо с извинениями за многолетнее молчанье, с уймой наводящих вопросов и с приложением второй своей книги, свежеобруганной Грацианским. Ответное письмо Егора Севастьяныча содержало кое-какие сведения, проливавшие свет на подробности Леночкина бегства.
2
Весна 1929 года пришла на Енгу с запозданием, береза зазеленела едва к середине мая, но снега повяли много раньше, и уже с апреля полозья доставали земли. Попутные, со станции, возчики подкинули Елену Ивановну с дочкой до сворота на паром; санного пути через реку уже не было, а снег стал дырковатый, словно стрелянный из дробовика. До берега, тонувшего в сизой дымке за полыньями, пришлось добираться пешком. Лес еще не оживал, но уже умылся талой водой кое-где на скатах. По колее идти было трудно, а укатанная с зимы обочина плохо держала даже детскую ступню. С полдороги девочка стала никнуть от усталости, и мать пожалела, что, напропалую вырываясь на свободу, письмом не упредила Егора Севастьяныча о своем приезде. Затемно, обе с мокрыми ногами, дотащились до приземистого бревенчатого флигелька, в ближнем крыле которого обитал пашутинский фельдшер... Никто не отзывался на стук и голос: в Пашутине ложились с наступленьем темноты.
Мать шепнула дочке, что сейчас дедушка проснется и впустит их к себе, в тепло, но по-прежнему стояло полное безмолвие, если не считать невнятного весеннего журчанья вокруг да ленивого, спросонья, тявканья шавки на другом конце поселка. В самых худших предположеньях Елена Ивановна глядела на одинокую синюю звезду, висевшую позади ледяной сосульки под крышей, — соскользающие капли несли в себе частицу ее кроткого сиянья.
И чем дольше мерзла с дочкой под чужим окном, тем убедительней представлялась ей неизбежность возвращения на Енгу... Она с детства чувствовала ложность своего положения в сапегинской семье, особенно в канун революции, когда сословные трещинки окончательно подточили казавшийся незыблемым государственный монолит. И столько в те месяцы в сущности уже проигранной войны кричали об измене и преступлениях обреченного строя, такою то ненавистью, то клеветой отзывались на это поредевшие теперь старухины гости, такая волна возмездия начала время от времени погуливать по уезду, таким вызывающим казалось существованье одинокой и парализованной владелицы все еще многочисленных угодий, что Леночка ужаснулась однажды и затрепетала при мысли, что по израсходовании наличных ответчиков примутся когда-нибудь и с нее взыскивать за прошлое, даже за то, о чем и не ведала никогда. Обострившимся чутьем перебежчицы ощущала она косые, полные злого любопытства, взгляды простонародья на себе, однако обязательства перед беспомощной воспитательницей да еще боязнь недоверия с той стороны, то есть то же самое чувство личного достоинства, помешали ей своевременно дезертировать из неблагополучного дома, уже покинутого прислугой. До сих пор не забыла она безумное томление пустых весенних вечеров наедине с безмолвною старухой, лихорадочное поглядыванье в окно на главную аллею с распахнутыми, точно приглашающими воротами в конце, подозрительные шорохи на крыльце, ночные скрипы в ставнях, это нестерпимое ожидание — даже не смерти и, пожалуй, вовсе не боли, хотя бы долгой и все не умерщвляющей, а чьего-то небрежного прикосновенья к душе, причем в самой ее болезненной точке. Так начался ее недуг страха, смешанного с чувством какой-то смятенной виноватости и собственной неполноценности, от чего так и не сумел исцелить ее занятый своим делом Вихров, — это непрестанное, день и ночь, мысленное бегство все равно куда — на чужбину или в могилу. Но в таком случае так и не разобралась бы никогда — где же и чья правда, и, следовательно, Леночке не оставалось ничего, как начинать жизнь с того самого места, откуда она бежала в свое неудачное замужество.
Никакого оживленья по-прежнему не замечалось в окнах у фельдшера, однако после повторного стука зажженная спичка проплыла в окне, и минутой позже знакомая долговязая фигура, с папироской и накинутым поверх белья плащом, появилась на крыльце.
— Али дня вам нету, ночью таскаетесь! — заворчал лекарь и покашлял лаисто. — Чего у тебя за хворь такая экстренная?
— Мы прямо с поезда к вам, Егор Севастьяныч... — Елене Ивановне казалось теперь, что она уже не имеет права назвать фамилию мужа. — Уж простите, спать вам не даем.
Только что вернувшийся с вызова, фельдшер молча кутался в свой брезент, коробом стоявший на спине. Здесь очень уместно захныкала Поленька, точь-в-точь как Демидов мальчик на вихровской лестнице год спустя, и сама Елена Ивановна всхлипнула невзначай.
— Чего ж убиваться-то ране сроку! — прикрикнул старик. — Неси дитё в дом, распаковывай... сейчас мы его обследуем. Погоди на крыльце минутку, дай мне облачиться сперва.
Старинный керосиновый пузырь с абажуром молочного стекла еле освещал полужилую холостяцкую каморку, оклеенную газетами и с лосиными рогами над книжной этажеркой. И, благословляя эти потемки, Елена Ивановна торопливо и начистоту выложила старику все о себе до последнего пятнышка: решалась ее судьба. Егор Севастьяныч шлепал из угла в угол в калошах на босу ногу, выкручивал из горелки набухший фитиль, поглядывал на девочку, пригревшуюся в его постели. Имея всего четыре класса военно-фельдшерской школы, он затруднялся ставить диагноз в делах сердечных, в данном случае — касательно поведенья молодой и миловидной женщины, вздумавшей сменить удобства столичной жизни на сомнительные радости захолустного жития. По ночному времени довольно фальшиво выглядела и ее потребность доказать кому-то, как у нее вырвалось в запале, право на воздух родины, словно кто-то мог отказать человеку в этом. Старик прикинул в уме возможные, модные в то время варьянты, но в Лошкаревском районе не имелось ни оборонных заводов, ни секретно-промышленных предприятий, кроме фабрички валяных изделий километрах в двадцати от места действия. Словом, за сорок лет медицинской практики это был самый редкостный и, кажется, неотложный случай... да и просила эта женщина такую малость, что невозможно стало отказать.
— Куда и определить тебя, бабочка, не знаю... забыла все поди? Может, в Лошкареве должности тебе попросить? — маялся он перед профессорской женой.
— Мне теперь самое главное, чтоб именно здесь остаться, Егор Севастьяныч. Хоть бы с няни начать...
Тогда, покормив гостью закисшей холостяцкой снедью из расписной миски на столе, лекарь накинул на плечи мохнатую разъездную доху, известную всему району под кличкой двенадцати собак, по числу пошедших на нее шкур, и удалился ночевать к конюху в сторожку.
Несмотря на кажущуюся ясность намерений, Елена Ивановна ехала на Енгу с чувством, словно кидалась в омут: умереть и родиться вновь... Ее разбудили веселые звуки воскресного утра. Распластав лапы, фельдшеров щенок повизгивал в солнечном луче, а из сеней доносился плеск воды, сливаемой в ушат; кроме того, озорничали за двойной рамой воробьи, и Егор Севастьяныч отчитывал кого-то за дисциплинарную провинность. Все обошлось без придуманных заранее огорчений, даже дочка не простудилась в дороге; так началась вторая жизнь Елены Ивановны. Она успела засветло снять угол в избе у местной девы-вековухи, Попадюхи по прозванью, купила пшенца и тройку обиходных горшков на базаре и сделала все необходимое, чтоб к вечеру отправиться на дежурство. Первые дни было страшновато перед людьми — сдаться или осрамиться, но почему то уже меньше зябла теперь в холодноватом деревянном строеньице, где проводила большую часть суток. То была ветхая, еще земской стройки участковая больничка, творение самого Егора Севастьяныча, на дюжину коек и без городских затей, зато всего там было понемножку: амбулатория с картинками всевозможных болезней на стенах, настоящая родовая палата, даже своя аптечка с дверью матового стекла и такого басовитого голоса, что недуги попроще начинали как бы бледнеть еще до принятия лекарства. Больные лежали под тонкими куцыми одеяльцами, очень за все благодарные и даже с детским удовольствием, как умеют болеть лишь крестьяне; уход и ласка были для них важнее наивных, универсального действия микстур... Пожалуй, наиболее затяжная и опасная болезнь там была у самой Елены Ивановны.