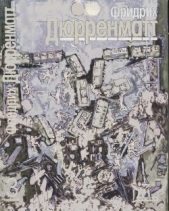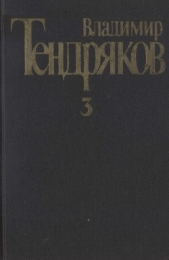Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести
![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/49841/49841.jpg)
Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести читать книгу онлайн
В 5 том. завершающий Собрание сочинений В. Тендрякова (1923–1984), вошли повести «Расплата», «Затмение», «Шестьдесят свечей», написанные в последние годы жизни, а также произведения из его литературного наследия: «Чистые воды Китежа» и роман «Покушение на миражи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Так что важнее? — продолжала Лена. — Что важней? Убийство каких-то дьячковых жен или эти большие, исторические дела?
Лена Шорохова победно села. Класс выслушал ее без какого-либо удивления или восхищения. Класс молчал со скучающим видом: „Ну, все же ясно“.
„Убийство каких-то дьячковых жен…“ — с пренебрежением.
„Дьячковы жены“, наверное, были молоды и красивы, иначе не позарился бы на них пресветлый царь Иван Васильевич.
Красивы, молоды, как Лена Шорохова.
У Лены на открытом румяном лице написано: не надо меня хвалить, не надо, незачем! Пышные, воздушные волосы, крепкие плечи, брови, которые, наверное, уже сейчас сводят с ума парней.
„Убийство каких-то…“ В ее возрасте мысль об убийстве даже мышонка должна вызывать отвращение. Для нее естественней впадать в девичий грех сентиментальности. И победное выражение на лице, и класс скучающе молчит. Что тут такого? Так и должно быть. „Убить каких-то…“ Лена Шорохова кончает школу, я скоро напишу ей характеристику — способности выше всяких похвал, поведение самое примерное, прилежание самое наилучшее, общественница самая активная и, конечно же, хороший товарищ… Да, да, хороший товарищ, этого я не забуду написать. Все по самой высшей мерке, каждое слово утверждение — лучшего человека быть не может, идеальна. И с такой характеристикой она выйдет в жизнь.
Гордые брови, сильное, упругое тело — создана любить и быть любимой, рожать детей, стать матерью. Но „убить каких-то“ — эка беда.
Лена Шорохова сама, возможно, неспособна убить и мышонка, противно, но убить человека — не маму, не папу, не младшего братишку, совсем незнакомого, — раз нужно, то отчего же… Голосую — за!
На меня напало смятение, а класс сонливо молчал, класс ничего не замечал.
— Бочаров! — позвал я.
Вскочил Лева Бочаров — невысок, подвижен, растрепан, большеголов, лобаст, тонкая шея с проклюнувшимся кадычком, нос туфелькой, глаза наивны, невинны, голубы.
— Как ты считаешь?
Наивные глаза стали еще наивнее — лазурное небушко, и подумать не смей, что за ними скрываются какие-то каверзные мыслишки.
— Что считать, Николай Степанович? Шорохова ответила, а уж нам где уж…
По классу загуляли улыбочки, запахло развлечением. Бочаров глядел на меня голубым преданным взором.
— Ты с ней согласен?
— Напрасно вы, Николай Степанович, обо мне плохо думаете…
— А если я плохо думаю о Шороховой?
По классу продолжали гулять улыбочки, но глаза Бочарова стали напряженными, сталистыми.
А лицо Лены Шороховой по-прежнему покойно — не надо хвалить! — надменный поворот в сторону Бочарова. Она и мысли не допускает, что ошиблась в ответе, не сомневается, что в конце-то концов я ее похвалю. Она ждет от меня хода конем, который выведет ее в ферзи.
— Ну, что молчишь? — напомнил я Бочарову.
— А что говорить? — в голосе Бочарова вызов. — Вы подскажите, а я скажу. То, что нужно. Всегда готов.
— Что ж… Не хочешь, не надо. Садись.
Но Бочаров встал с желанием возражать: спрашивают — не отвечать, хотят посадить — садиться не следует. Он не любил чувствовать себя побежденным.
— Если начистоту, я за Зыбковец, Николай Степанович.
— Почему?
— Иван Грозный Сибирь осваивал — дело, конечно, большое, но даже ради этого большого дела я не хотел бы ему помогать. Шорохова готова, а я вот нет.
Нос туфелькой, вызывающий лоб, посеревшие, утратившие голубизну глаза. А рядом с Бочаровым все еще блаженно улыбался Хлынов, здоровый верзила, преданный бочаровский адъютант, всегда ждущий от своего друга веселой шуточки, ради шуточек верно служащий ему увесистыми кулаками.
Хлынов улыбался, но в классе повисло молчание, уже не то дремотно безразличное, какое было после ответа Лены Шороховой, а собранное, настороженное.
Все как-то уловили — сказаны серьезные, стоящие внимания слова.
„Что важней? Убийство каких-то дьячковых жен или эти большие, исторические дела?“
Хлынов жмурится.
— Хорошо, — произнес я, преодолевая легкую сипотцу в голосе. — Ты за Зыбковец, за ее взгляды, но почему ты написал сочинение, похожее на шороховское?
Бочаров сердито покраснел, потемневший взгляд стал злым, колючим.
— А мне, Николай Степанович, наплевать на царя Ивана и не наплевать на отметку, которую вы поставите в журнал.
Молчал класс. Ожидающе ухмылялся Хлынов. Шорохова глядела мимо Бочарова и презрительно кривила сочную губку. Она надеялась на ход конем с моей стороны.
— Садись, Бочаров.
Он сел.
Молчал класс, молчал и я.
Давным-давно жил грозный царь Иван Васильевич, немало крови он пролил на своем веку. Что было, то было, принимай Ивана Грозного таким, каким он попал в историю.
Я люблю историю здраво и беспристрастно, не снисхожу к симпатиям и антипатиям. Кровав?.. Да, кто спорит! Но кровь-то эта питательна. „Убийство каких-то… жен…“ Подумаешь. Как на опаре, поднялось русское великодержавное государство от Балтики до Тихого, от льдов полюса до прокаленных песков Кушки. Люблю историю…
Я, педагог, не воспитал негодования к убийству.
„Борьба Ивана Грозного носила прогрессивный характер…“ И можно ли историю воспринимать холодно, без сердца? Не должна ли давным-давно пролитая кровь обжигать нас сегодня, как и кровь свежая?
Молчал класс, молчал и я.
В лице Шороховой появилось беспокойство, видать, начала догадываться, что хода конем не будет. Хлынов перестал ухмыляться, недоуменно косился на друга Леву. А друг Лева сердито прятал глаза.
После уроков я попросил Лену Шорохову проводить меня. Мне хотелось разглядеть в упор этого человека. Я проучил ее четыре года. Всегда она выделялась, всегда на глазах — лучшая из лучших, украшение земли.
Через меня прошло больше трех тысяч учеников. Это что-то около восьмидесяти классов. В каждом классе непременно была своя Лена Шорохова, а то две или три — лучшие из лучших…
Любил шороховых, не уживался с бочаровыми, не замечал таких, как Зоя Зыбковец.
Она идет со мной рядом. Господи! Какой румянец на ее щеках, густой, бархатный, звучный! И какие глаза, темные, встревоженные, с золотой глубинной искрой. Щедра ты, мать-природа! Прекрасен человек!
Улица полуденна, прокалена уже нешуточным весенним солнцем, благоухает бензинным перегаром и тополиной горечью — уж не лопнули ли в ближайшем скверике почки?.. Прохожих достаточно, но они сейчас не суетны, а, скорее, ленивы.
Улица почему-то теперь меня не пугает, хотя я постоянно помню о письме в кармане. На улице я, дичь, скорей всего налечу на охотника — „Ваш бывший ученик“, честь имею!
— Какой предмет ты больше всего любишь? — задаю я Лене банальный вопрос.
И она тем не менее сразу не отвечает, загнав соболиные брови под беретик, думает. У нее по всем предметам круглые пятерки, какому отдать предпочтение?
— Историю ты любишь?
— Да, Николай Степанович.
— А черчение?
— Черчение? — переспрашивает она удивленно.
Я нарушил субординацию: после истории, своего — понимай, наисущественнейшего! — предмета, я вдруг спрашиваю о каком-то черчении.
— Люб-лю, — неуверенно говорит Лена на всякий случай.
— А математику?
— Люблю.
— А литературу?
— Люблю.
— А биологию?
— Люблю тоже.
— А что же ты не любишь?
Лене неловко от своей любвеобильности, и она несмело поправляется:
— Я вам не совсем верно сказала, Николай Степанович. Черчение я не очень… Кропотливо, время отнимает, а ни уму, ни сердцу.
— А кем ты собираешься стать?
— Точно пока не скажу… В какой-нибудь технический вуз.
— В технический?.. Но ты же черчение не любишь, а там это основной предмет. И зачем тебе технический? Ты же любишь историю.
— Что же, я не прочь на историка…
— Или же на физико-математический! Там черчение не нужно, готовят не техников, а теоретиков.
— Я бы туда с удовольствием, только ведь не каждый попадет…
— А биология… Впрочем, мы, кажется, уже дошли. Мне направо… Всего хорошего.