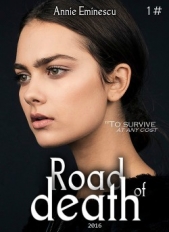Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. Маленькие п
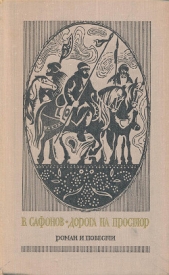
Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. Маленькие п читать книгу онлайн
В книгу входят широко известные произведения лауреата Государственной премии СССР Вадима Сафонова.
Роман «Дорога на простор» — о походе в Сибирь Ермака, причисленного народной памятью к кругу былинных богатырей, о донской понизовой вольнице, пермских городках горнозаводчиков Строгановых, царстве Кучума на Иртыше. Произведение «На горах — свобода!» посвящено необычайной жизни и путешествиям «человека, знавшего все», совершившего как бы «второе открытие Америки» Александра Гумбольдта.
Книгу завершают маленькие повести — жанр, над которым последние годы работает писатель.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ладные стружки, — говорил старичок, — ладные. Ничего… разумные, кзень. Сколько по земле ни ходи, не найдешь больше таких. Ни у турок, ни у Немчинов. Наш, кзень, русак выдумал! Ты примечай, учись, казачок…
Говорил ласково, охотно, дребезжащим, старческим голосом и часто прибавлял какое–то словечко «кзень». Так и звали его в станице Кзень–дед. Как звался он раньше — забылось.
Слушать старика нравилось Гаврюхе. Он усаживался подле. Парень еще вытянулся, стал длинноног, тонок, но лицо его, погрубевшее, все не знало бороды и усов, как у мальчика.
Удивительные вещи рассказывал старик.
— Пуста земля стала, — ласково уверял он. — Я‑то знаю. Я‑то скажу: пусто, кзень, на миру стало. Люди–то, люди повывелись, какие прежде были. Атамана Нечайка знаешь? Знаешь Нечайка?
— Нечайка?
— Мингала? Бендюка? Десять казаков нонешних на копье поднять бы мог. Как закрыл очи Бендюк, прах его возвысили на гору высо–окую–все Поле глядело, чтобы вечно, кзень, жила слава. Да я вот один про то и помню…
Старичок посмеялся чему–то, погладил свои тощие, сухонькие руки, почмокал губами.
— Струги–лебеди на море Черном… Стены Царьграда, колеблемые, как тростник ветром… Атаманов голос — орлиный клекот… Сила! Девять жен было у меня — тут, на реке, в желтой орде, в сералях бирюзовых. И они, казачок, не вылюбпли той силы. Огонь–вино не выжгло. Да, вишь, сама, сама, кзень, вытекла.
Он утвердительно и как будто сокрушенно покивал головой, но глаза его светились радостью. И Гаврюха, лежавший подле пего на животе, подперев руками щеки, подумал, что глаза старика похожи на донскую воду.
— Тебе не быть таким, не-е… а все ж, может, возрастешь, добрый будешь казак. На гульбу идешь… ты не бойся. Ничего, кзень, не бойся. Смерти не бойся. Чего ее бояться? Всем помирать. На царя в хоромах ветру дыхнуть не дают. А он выйдет, царь, из хором и пойдет один–одинешенек встречу тому, чего страшился пуще всего. — Он ласково засмеялся. — Ты это и пойми. Глянь–кось! Я десять, кзень, смертей изведал. Тело года сглодали. Ничего глодать и не осталось — нечем пугать меня. А я — вот я. Вся жизия — со мной. Ты послушаешь — тебя поучу. И другого кого еще поучу. Славе поучу — и живо казачество…
Говоря, старик медленно потирал друг о дружку босые ноги и руками плел что–то из травинок, словно все его сухонькое тело никак не могло оставаться в покое, в ничегонеделанье, без трудового движения.
Гаврюхе сладко и почему–то страшно было слушать старика. Он знал, что звали его еще «Столетко», а иные охально: «Богов шиш». Весь он, иссохший, темный, с морщинистой кожей, будто присохшей к костям, казался парню существом непонятной, нечеловеческой породы, и шевелящиеся ноги его, худые, синеватые, скрюченные, с криво вросшими темными ногтями, напоминали ноги ястреба. Гаврюха оглядывал свое смуглое, гладкое, стройно–тугое тело и с радостью думал, что невозможно, невероятно ему дожить до ста и стать таким.
А Столетко меж тем поднял глаза на солнце и, встрепенувшись, стал упихивать торбу под тесину, чтобы, случаем, не замочило дождем.
— Эх, теплый песочек, согрел старые кости!..
Разминаясь, крикнул:
— А тту, работнички!
Опять затюкали топоры, застучали молотки, запела пила:
5
Расшумелись на гульбище…
— Атаман Гроза потчует!
— Цыган потчует!
Веселый вскрик:
— Богдан–атаман Брязга потчует!
— И-эх, Богданушка!..
— Ратуй товарпство, Богдап, томно полевичкам без твоей ласки!
— Цыть, оглашенные!
— Братцы! Молодцы! Чтоб Волга–река приласкала зипунами малиновыми! Чтоб слаще бабьей стала та ласка!
— Бабоньки! Платком уши крепче повяжите, не слухайте! Богдан, ты не завел себе женку, вот тебе и некому очи твои выдрать.
Брязгу любили. Еще рубцов–шрамов прибавилось на его лице.
И не у одного Брязги прибавилось. Все побывали в Поле во время Касимова нашествия. Все побратались кровью и смертной муки, и полыпной горечи, и победной радости допьяна хлебнули из одного ковша.
— Дед Долга Дорога да дед Антипки–внучка потчуют!
— А и не собирался я. Браги на вас жалко… нечистый дух!
— Подноси, деды, умасливай! В попы поставим на Волге, ектеньи петь.
— Насмешники, бесово семя… Внучек–то мой возрос, Антипка, пехай вступается теперь за деда!
— Слава! Слава!
— Долга Дорога, Долга Дорога… Была долга, зараз мне недолга осталась… Все же еще потопаем, не отстанем от других. Как судишь, дед–атаман?
— Слава! Слава!
А рябой молоденький казачок, покрыв все голоса своим сильным, чистым голосом, выпевал это как песню:
— Слава! Слава!..
Платье, взятое у врага, куски парчи, цветные турецкие туфли с загнутыми носами надеты на многих. В десятый раз поминались походные были, иной с вдохновенной отвагой пускал в оборот неслыханную, даром что те, кого он дивил, «полевали» бок о бок с ним и ничего подобного в ту горячую пору не приметили.
Сыпались острые словечки, хохот (не слезами же гладить дорожку!), песня подымалась и сникала. А чаще всего повторялось вперебой веселью:
— Атаман Михайлов потчует! Ешь–пей, не жалей!
Михайлов по жалел. Не только что тут потчевал, познали — стряпухи его куреня да еще трое ясырей в помощь им загодя от зари до зари готовили гору снеди, почитай, что и весь этот пир прощанья со станицей вышел михайловский. Еще и сам Дорош со всеми своими табунами навряд ли выдюжил бы состроить такое угощение обществу… Вот те и «ни в тех ни в сех» Михайлов!
— Ох, и пиво доброе!.. Хороший казак, хозяин казак. Он и перед туркой, он и в станице, значит… хозяин казак. Я Антипке–внучку толкую: «Ты на Якова на Михайлова взирай… Как он, значит, жизней владает… И погулять, и за Дон встать — и все не себе, а людям…» Ох, и доброе пиво!.. Слава! Кричи, хлопец, чего молчишь!
— А того молчу, дед, — отозвался рябой казачок, — что гляжу: Гаврила самого Девлета оборол…
— Оборол, хлопец, а как же, мне ровно второй внучек Гаврила…
— Обогател Гаврила? Ты прямо ответь.
— А не обогател, хлопец, млад он.
— Ну, млад. А ты–то, дедуня, не млад: сколько годов в Поле ходишь?
— Так я ж толкую, что по счесть, не счесть мне тех годов… Астрахань–город брал. В Кафу хаживал. В Истамбул полоняником мепя сволокли… чуть евнухом… евнухом, слышь, в серале чуть не приставили, только ушел я… А пиво–то доброе, ноне всяк казак сыт будет… На Волгу в четвертый, слышь, бреду…
— Вот и вышло, дедуня, что все твое богатство — Якова пиво.
— Правда, хлопец, истинная. Я ж и толкую: хороший казак Яков.
Как из–под земли вырос перед ними Михайлов, в простом казачьем платье, без тех украшений, походной добычи — серег, туфель, парчи, шитья — в чем щеголяли сейчас другие.
— Ты, певун! Моей брагой пьян, меня ж лаешь.
По–хорошему сказал. Но точно с горы понесло нар–нишку–певуна (видно, хмельной в самом деле оказалась брага Якова!).
— Твоя брага. И хлеб уж не твой ли? Кус людям отрежешь, три куса воротишь.
Михайлов не поддался гневу, терпеливо растолковал:
— Ватажный хлеб. Нет моего хлеба.
Наклонился и сказал негромко, руку положив ему на плечо:
— Какие речи ведешь? Рано рвешься к прибыткам вперед других. Смотри! Думаешь, забыл я крик твой: «У Михайлова сыночков оделяют, пасынков со двора выбивают»?
Паренек дернул плечом.
— Сам скажи: маманю мою с сестренкой голодных за что выбил? За то, что слово поперек тебе вставить не боялась?
— Ты вот что: ты сядь так, чтоб я тебя не видел; пьян ты. Свое в ватаге выслужи, на чужой дуван не зарься, — донской закон знаешь?
— Не стращай!
А дед поднялся, на голову выше Якова, грузный, с жилистой шеей, недоуменно моргая белесо–голубыми глазами.