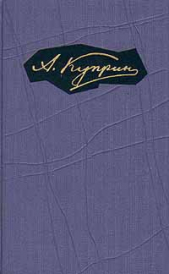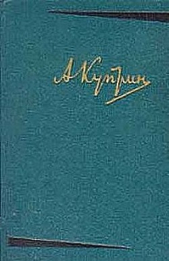Том 1. Произведения 1889-1896
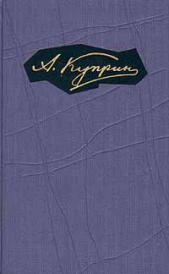
Том 1. Произведения 1889-1896 читать книгу онлайн
В первый том вошли произведения 1889–1896 гг.: "Последний дебют", "Впотьмах", "Лунной ночью", "Дознание", "Славянская душа", "Аль-Исса", "Куст сирени", "Негласная ревизия", "К славе", "Воробей", "В зверинце", "Игрушка", "Столетник", "Просительница", "Картина", "Страшная минута", "Мясо", "Без заглавия", "Ночлег", "Миллионер", "Лолли", "Пиратка", "Святая любовь", "Жизнь", "Локон", "Странный случай", "Бонза", "Ужас", "Полубог", "Наталья Давыдовна", "Собачье счастье", "На реке", "Блаженный", "Сказка", "Кляча", "Чужой хлеб", "Друзья", "Марианна".Предисловие к изданию Корнея Чуковского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что вам угодно? — спросил меня приказчик. Я принял самый небрежный вид и сказал фатовским тоном:
— Отвесьте-ка мне фунт черного хлеба…
Но я далеко не был спокоен, пока приказчик широким ножом красиво резал хлеб.?А вдруг, — думалось мне, — фунт хлеба стоит не две с половиной копейки, а больше? Или что будет, если приказчик отрежет с походцем? Я понимаю, можно задолжать в ресторане пять — десять рублей и приказать буфетчику: «Запиши там за мной, любезный», но как быть, если не хватит одной копейки. Ура! Хлеб стоит ровно три копейки. Я переминался терпеливо с ноги на ногу, когда его завертывали в бумагу. Как только я вышел из булочной, чувствуя в кармане теплое и мягкое прикосновение хлеба, мне хотелось от радости закричать и съежиться, как делают маленькие дети, ложась в постель после целого дня беготни. И я не мог утерпеть, чтобы еще на Невском не сунуть украдкою в рот двух больших вкусных кусков.
Да-с. Я все это рассказываю в почти веселом тоне… Но тогда мне было вовсе не до веселья. Прибавьте к мучениям голода острый стыд провала, близкую перспективу насмешек полковых товарищей, очаровательную любезность чиновников, от которых зависела выдача проклятых прогонов… Я вам скажу искренно, что в эти дни я все время был лицом к лицу с мыслью о самоубийстве. На другой день голод опять сделался невыносимым. Я пошел к Александре Ивановне… Степан, увидев меня, пришел в неистовый восторг. Он рычал, подпрыгивал и лизал рукава моего сюртука. Когда наконец я сел, он поместился около меня на полу и прижался к моим ногам. Александра Ивановна насилу отогнала его.
Мне очень было тяжело просить бедную, испуганную суровой жизнью женщину о деньгах, но я решился сделать это.
— Александра Ивановна, — сказал я, — мне есть нечего. Дайте мне, сколько можете, взаймы… Она всплеснула руками.
— Голубчик мой — ни копеечки. Вчера сама заложила брошку… Сегодня еще было кое-что на базар, а завтра уж не знаю, как быть…
— Не можете ли вы взять немного у сестры? — посоветовал я. Александра Ивановна боязливо оглянулась кругом и зашептала с ужасом:
— Что вы, что вы, дорогой. Да ведь я и так из милости живу у нее. Нет, уж лучше подумаем, нельзя ли как-нибудь иначе обойтись.
Но, что мы ни придумывали, все оказывалось несбывчивым. Потом мы оба замолчали. Наступал вечер, и по комнате расползалась унылая, тяжелая мгла. Отчаяние, ненависть и голод терзали меня. Я чувствовал себя заброшенным на край света, одиноким и униженным.
Вдруг кто-то толкнул меня в бок. Я обернулся. Это был Степан. Он протягивал мне на ладони кучку медных монет и говорил:
— Тэки, тэки, тэки…
Я не понимал. Тогда он бросил свои деньги мне на колено, крикнул еще раз «тэки» и убежал в свой уголок.
Ну, что скрываться? Я заплакал, как маленький мальчик. Ревел я очень долго и громко. Александра Ивановна также плакала вместе со мной от умиления и жалости, а Степан из темного угла испускал жалобные, совершенно осмысленные «урлы, урлы, урлы»…
Когда я успокоился, мне стало легче. Неожиданное сочувствие блаженненького вдруг согрело и приласкало мое сердце, показало мне, что еще можно и должно жить, пока есть на свете любовь и сострадание.
— Так вот почему, — закончил Зимин свой рассказ, — вот почему я так жалею этих несчастных и не смею им отказывать в человеческом достоинстве. Да и кстати: его сочувствие принесло мне счастье. Теперь я очень рад, что не сделался «моментом». Это так у нас в армии называли офицеров генерального штаба. У меня впереди и в прошлом большая, широкая, свободная жизнь. Я суеверен.
< 1896>
Сказка
— Папа, расскажи мне какую-нибудь сказку… Да слушай же, что я тебе говорю, папочка-аа…
При этом семилетний Котик (его имя было Константин), сидевший на коленях у Холщевникова, старался обеими руками повернуть к себе голову отца. Мальчика удивляло и даже немного беспокоило, зачем это папа вот уже целых пять минут смотрит на огонь лампы такими странными глазами, неподвижными, как будто бы улыбающимися и влажными.
— Да па-па же-е, — протянул Котик плаксиво. — Ну чего ты со мной не разговариваешь?
Иван Тимофеевич слышал нетерпеливые слова своего сына, но никак не мог сбросить с себя того страшного очарования, которое овладевает человеком, засмотревшимся на блестящий предмет. Кроме яркого света лампы, к этому очарованию примешивались и обаяние тихого, теплого летнего вечера, и уютность небольшой, но миленькой дачной террасы, затканной диким виноградом, неподвижная зелень которого при искусственном освещении приобрела фантастический, бледный и резкий оттенок.
Лампа под зеленым матовым абажуром бросала на скатерть стола яркий ровный круг… Иван Тимофеевич видел в этом круге две близко склонившиеся головы: одну — женскую, белокурую, с нежными и тонкими чертами лица, другую — гордую и красивую голову юноши, с которой черные волнистые волосы падали небрежно на плечи, на смуглый смелый лоб и на большие черные глаза, такие горячие, выразительные, правдивые глаза. На своих щеках и на своей шее Холщевников чувствовал прикосновение нежных рук Котика и его теплое дыхание, даже слышал запах его волос, слегка выгоревших за лето на солнце и напоминавших запах перьев маленькой птички. Все это вместе сливалось в такое гармоничное, такое радостное и светлое впечатление, что глаза Холщевникова невольно начали щипать благодарные слезы.
Две головы, склонившиеся около лампы и почти касавшиеся волосами, принадлежали жене Холщевникова и Григорию Баханину, его лучшему другу и ученику. Иван Тимофеевич с искренней, горячей и заботливой любовью относился к этому пылкому и беспорядочному молодому человеку, в картинах которого опытный глаз учителя давно уже прозрел дар широкой и дерзкой кисти громадного таланта. В душе Холщевникова совсем не было зависти, столь свойственной бурной и вульгарной среде художников. Наоборот, он гордился тем, что будущая знаменитость — Баханин — брал у него первые уроки и что его жена, Лидия, раньше всех признала и оценила его ученика.
Баханин, молча и не отрываясь, чертил карандашом на лежавшем перед ним листе бристольской бумаги, и из-под его руки выходили карикатуры, виньетки, животные в человеческих костюмах, изящно сплетенные инициалы, пародии на картины, выставленные в Академии художеств, тонкие женские профили… Эти небрежные наброски, на которых каждый штрих поражал смелостью и талантом, быстро сменялись один за другим, вызывая на лице Лидии Львовны, внимательно следившей за карандашом художника, то усиленное внимание, то веселую улыбку.
— Ну вот какой ты, папа. Сам обещаешь, а сам теперь молчишь, — протянул обидчиво Котик. При этом он надул губки, опустил низко голову и, теребя свои пальцы, замотал ногами.
Холщевников обернулся к нему и, чтобы загладить свою вину, обнял его.
— Ну, хорошо, хорошо, Котик. Я тебе расскажу сейчас сказку. Не сердись… Только… Что бы тебе рассказать?..
Он задумался.
— Про медведя, которому отрубили лапу? — сказал Котик, облегченно вздыхая. — Только я это уже знаю.
Внезапно в голове Холщевникова сверкнула вдохновенная мысль. Разве жизнь его не может послужить темой для хорошей, трогательной сказки? Разве давно это было? — всего двенадцать лет тому назад, — когда он, бедный, неизвестный художник, затираемый начальством, оскорбляемый самообожанием, невежеством и рекламированием бездарностей, не раз ослабевал, терял голову в жестокой борьбе с жизнью и проклинал тот час, когда взялся за кисть. В это тяжелое время на его пути встретилась Лидия. Она была гораздо моложе его, она была ослепительно красива, умна, окружена поклонниками. Он, бедный, невзрачный, болезненный, испуганный жизнью, и мечтать не смел о любви этого высшего обворожительного существа. Но она первая уверовала в него, первая протянула ему руку. Когда, утомленный неудачами и бедностью, потерявший силу и надежду, он падал духом, она ободряла его лаской, нежной заботой, веселой шуткой. И ее любовь восторжествовала… Теперь имя Холщевникова известно всякому грамотному человеку, его картины украшают галереи коронованных особ, — он единственный из академиков, которого обожает ни во что не верящая среда молодых художников… О материальном успехе и говорит нечего… И он и Лидия с избытком вознаграждены за долгие унизительные годы свирепой экономии, почти нищенства.